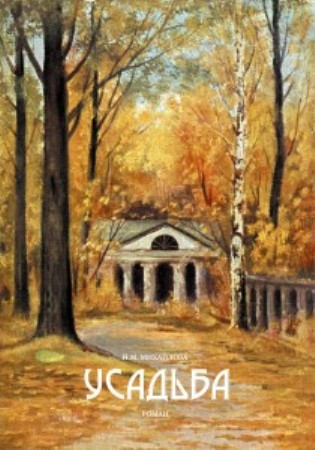1. Н.М. Михайлова. «УСАДЬБА». Роман. — «Юность», 2008, № 10, 11.
2. [PDF] Н.М. Михайлова. «Усадьба». Роман. 1995.
3. Здесь роман можно читать в формате WORD
ОГЛАВЛЕНИЕ
Часть I. ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО в Сурминове 3
1. ПОРТРЕТ 5
2. ПЕЙЗАЖ 12
3. ФАРФОР 21
4. ПУТЕШЕСТВИЕ 28
5. СКЕПТИЧЕСКАЯ ШКОЛА 35
6. БРИЛЛИАНТОВОЕ ГНЕЗДО 43
7. ИЩУЩИЕ МАННУ 49
8. ЗЛОУМЫШЛЕНИЕ 55
9. РАЗБОЙНИКИ 61
Часть II. ИЗГНАННИКИ. 71
10. РАЗДУМЬЯ 73
11. СМУТНОЕ ВРЕМЯ 80
12. ФИЛОСОФ 91
13. ОСЕННИЕ ПРОГУЛКИ 104
14. СУДЬБА ХУДОЖНИКА 115
15. ПРАЗДНИК 133
16. ВИЗИТ 140
17. ПОЖАР 144
18. ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 153
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА 160
СТИХИ ИЗ СТАРЫХ АЛЬБОМОВ 167
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО в Сурминове
И пробуждалось в нас сомненье роковое,
Что гибель уж близка – что отданы мы ей.
Наш праздник был хорош, хорош своей печалью,
Как всё, что кончиться и умереть должно…
Всё это было здесь… И странное всех нас,
Невыразимое охватывало чувство,
Когда мы думали, что скоро без следа
Погибнет это всё, погибнет – навсегда.
Эдмонд Ростан. Прекрасный вечер
М.К. Соколов. Кавалер и дама. 1931-1935. Из цикла «К Гофману».
Бумага, акварель, тушь, перо. 34,8×25,2
Глава 1. ПОРТРЕТ
Свеча нагорела. Портреты в тени…
Афанасий Фет, 1862
С того дня прошло уже более двадцати лет. Не верится даже. Это сейчас я спокойно написала «Усадьба. Роман», а тогда и в мыслях ничего подобного не было. Романов мне еще не доводилось писать. Хотелось бы не соврать, но там, где роман, там вымысел, и, значит, искажение действительности неизбежно. Писать надо занимательно, иначе кто же будет мой роман читать? Выдумывать я совершенно не умею, а подлинные имена и названия в романах не принято оставлять это же не очерк. Положим, с именами я справлюсь, но ведь прототипы, наверное, догадаются и могут на что-нибудь обидеться. Об этом лучше не думать, в конце концов, пусть догадываются. Не ясно и то, как писать: от первого лица или от третьего? Попробую писать от первого лица, потому что от третьего все выглядит условно, надуманно, неправдоподобно. Выбрать название очень трудно, но еще труднее начать.
С чего начать? Ведь жизнь непрерывна, а роман всего лишь кусок, грубо вырванный из жизненной ткани. По краям его тянутся нити и в прошлое, и в будущее. И по правилам, и ради пользы, наверное, следует сначала ввести читателя в курс дела описать место, время и хотя бы главных действующих лиц. Но мне не терпится начать, а уж потом, может, по ходу рассказа всё прояснится.
Итак, начну с того, как я ехала в электричке на работу в Сурминово после двухнедельного отсутствия. Был такой же сияющий мартовский день, как сегодня. Не ошибусь, если скажу, что это было утром во вторник по вторникам у нас в Музее день присутственный. Все наши обычно едут во втором вагоне, откуда ближе бежать к остановке автобуса. Но я не люблю ездить со всеми всё-таки лишний час одиночества и молчания жалко терять. Конечно, и тут не всегда везёт. Вот, пожалуйста. На Сосновской вошли три дамы, уселись в купе сзади меня и говорят непрерывно и довольно громко. Дамские разговоры меня всегда несколько озадачивают, напоминая первое действие из оперы «Евгений Онегин». Помните, когда старушка Ларина варит варенье, чуть ли не все вчетвером начинают петь. Ничего понять нельзя. Каждый поет о своём, и все сразу. И тогда, в вагоне, тоже началось одновременное говорение. Загадка, как они друг друга понимали. Невозможно было разобрать, о чём идёт речь. Но вдруг! Вот оно, то самое вдруг, с которого, пожалуй, можно начать роман. Вдруг на фоне «шумов» я чётко расслышала то, что геофизики называют « полезный сигнал».
— Мне говорили, — медленно произнесла одна из собеседниц, — что в Сурминовском музее хранится портрет Старца из Глинской пустыни.
Две другие дамы дружно ахнули и тут же возбужденно зашептались.
Меня это сообщение задело. Портрет в усадьбе действительно хранился, но он не числился в инвентарных книгах. В те времена хранить такой Портрет было настолько опасно, что в музее даже не все сотрудники знали о его существовании, а тем более о том, кто на нём изображен. Да, опасно было, а тут во всеуслышание, да ещё в поезде, какая-то незнакомая особа объявляет. Мне хотелось увидеть, кто же из них это сказал, но оглянуться было положительно невозможно. Пришлось встать и выйти в тамбур покурить. Все три лет под сорок. Одна блондинка, и очень пикантная; две другие худенькие, черные, беспокойные. О портрете говорила явно блондинка: уж больно лицо у нее было смиренно-торжествующее. Торжествующее потому что она сообщила потрясающую новость, а смиренное потому что новость была не простая, а «священная».
Вдруг они, как птицы, всполошились, головами закрутили туда-сюда, вскочили, схватили свои сумки и заспешили к выходу. Мы подъезжали к большой станции, поезд загромыхал на стрелках. В тамбуре они замолчали и оглядели меня с явным осуждением и даже брезгливостью, которую испытывают «церковные» к «безбожникам». Было ясно, что они едут к поздней обедне в Ломакинскую церковь, где служил модный батюшка. К нему, как говорят, «ездила вся Москва». Наконец, они вышли, и я вернулась на свое место.
Осадок неприятный остался. Усадьба вызывала у меня ощущение тревоги за неё тревоги и жалости одновременно. Обстановка в музее явно не соответствовала окружающей жизни, а потому в любой момент могла возбудить «идеологические подозрения» и, как следствие, нашествие местных райкомовских или, того хуже, министерских комиссий. Иногда само её существование казалось мне чудом. Особенно летом, когда при утреннем обходе видишь усадебный Дом без посетителей. Открываешь окна, и тут же начинают трепетать занавески. В комнаты проникает запах жасмина, а из липовой аллеи доносится гомон галок. Теплый запах старой мебели в Кабинете и кожаных переплётов в Библиотеке; блики солнца на паркете в Большой гостиной. И вазочки с чуть увядшими за ночь цветами. Хрупко. Нереально. Но живо, живо, несмотря ни на что.
Да-а… Но, спрашивается, от кого же эта блондинка узнала о Портрете? Теперь вот понесла, растрезвонила. Эти две, чёрненькие, конечно, тоже не преминут рассказать своим знакомым и, конечно, из самых лучших побуждений, так похожих на благие намерения.
Так. Вот, наконец, и моя станция. Народу сошло немного. Наши, музейные шли чуть впереди, стайкой. Скорее-скорее — автобус придёт минуты через две, и, если на него не успеешь, то или идти пешком три километра, или ждать следующего автобуса полтора часа. Но мы успели. Народу набилось много. В основном, это были жители ближайших сёл: Сурминова, Вавилова и Чиркина. С утра они обычно ездят за продуктами в станционные магазины. Проехали переезд и вырвались на волю, в простор полей, лесов и холмов. Вдали уже видны высокие купы лип и берёз усадебного парка. На полях тает снег. Грачи расхаживают, важничают. Автобус едет весело, народ оживлен ведь солнце, солнце!
Остановка от Усадьбы близко. Я была в сапогах и потому рискнула пройти по задам усадебной ограды. Вошла в ветхую калитку и направилась к дому через парк.
Парк сиял белизной. Видимо, на вчерашнем солнце снег слегка подтаял и за ночь замерз. Теперь в косых лучах солнца снежный наст блестел и переливался искрами. Резко очерченные тени от стволов и тонких веток черным кружевом покрыли белый снег. Наглая и умная ворона Степанида грузно уселась на ветку ближайшей берёзы, стряхнув с нее снег. Мелкие кристаллы вспыхнули в солнечных лучах, осели у меня на лице и шапке. Тут же стали плавиться и радужными каплями повисли на концах ресниц.
У меня обе руки были заняты сумками с продуктами. Мы обычно выезжали в Усадьбу на всю неделю. И так как в местном магазине «Товаров повседневного спроса» с продуктами, мягко говоря, было неважно, то пропитание приходилось возить из Москвы. Дорожка была скользкая и узкая. Я шла осторожно, боясь упасть. Наконец, вышла на двор между Домом и Флигелем, где в зале стоял рояль, огромный стол и кресла, а в боковых комнатках проживали сотрудники музея. Впереди я увидела своё отражение: с такими же тяжеленными сумками меня ожидала Елизавета Алексеевна, Лиза. Ее меховая шапочка, серый воротник шубки, пушистые ресницы вся она сияла искрами снежных кристаллов. Свежий и ровный румянец проступал сквозь тонкую кожу лица, чуть припухлого, с мягкими губами и тонким правильным носом. «Какая красавица!» подумала я, как всегда, глядя на Лизу после долгой разлуки. Мы радостно поздоровались, обе разом заговорили, рассмеялись и поставили сумки на землю. Так не хотелось уходить в помещение от солнечного тепла и света!
Лиза успела сообщить мне последние новости. Оказалось, что за время моего отсутствия, как в песне Высоцкого, «нам нового директора назначили». По этому поводу как раз сегодня в десять часов назначено общее собрание сотрудников музея. Директор будет представляться нам. Старый директор, потомок последних владельцев Сурминова, всеми любимый Павел Николаевич умер год назад. Исполняющим обязанности директора на первое время был назначен Витольд Измайлович Распопин. Он рассчитывал сделаться постоянным, но тут вмешался знаток поэзии Фета, филолог Григорий Ильич Борзун. Он написал докладную в Управление Культуры. С благородным негодованием он писал в ней о том, что мать Витольда уехала в Израиль, и в связи с этим Управление должно проявить особую бдительность. «Нельзя (писал он) допустить, чтобы отпрыск сионистки и изменницы Родины стал во главе идеологически-просветительского центра, каковым является музей-усадьба имени великого русского поэта». Вероятнее всего, Григорий Ильич сам рассчитывал сделаться директором. В столь сложных обстоятельствах мудрое Управление Культуры приняло соломоново решение. По рекомендации Ломакинского райкома Партии оно назначило директором постороннего человека, Леонида Наумовича Сидорова. Дошли слухи, что он был сотрудником газеты «Ломакинская правда» и, мало того, считал себя поэтом.
Услышав от Лизы всё это, я совсем приуныла. Но Лиза, будучи более уравновешенным человеком, поспешила утешить меня тем, что поэт Сидоров может оказаться всё же лучше, чем самоуверенный фетовед Борзун или, упаси бог, какой-нибудь отставной полковник. Мы знали, что наше Управление последние годы с удивительным постоянством директорами музеев назначало именно отставных полковников. Посему доводы Лизы показались мне убедительными. Мы прошли во Флигель, отнесли сумки в её комнату и вернулись в зал.
Собрание началось ровно в десять часов. Новый директор назвал его «планёркой» и заверил нас, что, так как он желает работать в тесном контакте с научными сотрудниками, то планёрки будут проводиться еженедельно по вторникам. Я сидела в кресле около окна, выходившего на залитый солнцем двор. Мне было видно, как на крыльцо Дома вышли Соня Кузнецова и милиционер Володя. Они закончили утренний обход Музея и теперь приступили к ежедневному ритуалу наложению печати. Володя, прилепив к двери кусочек пластилина, старательно дышал на медную печать, когда-то принадлежавшую владельцам усадьбы. Сильным движением он прижал её к пластилину, и я представила, как на нём отпечатался дворянский герб Камыниных. Соня сошла с крыльца и направилась к Флигелю. Я невольно улыбнулась, понимая смехотворность ситуации, при которой советский идеологический центр охранял дворянский герб.
И тут мне пришло в голову, что новый директор вряд ли будет терпеть столь возмутительную оплошность и постарается как можно скорее исправить её. Это соображение заставило меня переключить внимание на сидящих за столом людей.
Во главе стола сидел человек с голым лицом и мутными глазами. В них угадывались тщетно скрываемые подозрительность и настороженность, привычные для номенклатурного работника. Он был молод лет 35-37, но уже лыс, толст и явно самоуверен. Справа от него, пригнувшись к столу, поглаживая длинную лохматую бороду и поблескивая миндалевидными глазами, сидел Витольд Распопин, а слева его соперник, фетовед Гриша Борзун. Он тоже был с бородой, но аккуратно подстриженной. Его веселые, чуть навыкате, черные глаза оживленно перебегали по лицам присутствующих и задерживались только на одном милом лице Лизы.
Вот уж пятый год как он настойчиво и безуспешно пытается соблазнить её, но Лиза, к удовольствию всех музейных дам, не отвечала ему взаимностью, хотя и оставалась с ним в приятельских отношениях. Вечерами Лиза занималась музыкой, разучивала нудные этюды – она училась заочно. Гриша же был чрезвычайно музыкален, свободно играл на фортепиано и гитаре, сочинял и пел романсы. Почти каждый вечер они с Лизой пели романсы. У неё был чудный голос, высокий, негромкий и стойкий, а у Гриши баритон. Пели они на два голоса, и лишь один романс мы пели втроем на стихи Дельвига «Когда еще я не пил слез из чаши бытия...» Лиза не сдавалась. Гриша, не привыкший к отказам и уверенный в своей неотразимости, не унывал, а весь музей с неослабевающим интересом наблюдал за развитием романа.
Рядом с Борзуном в позе императрицы Екатерины II с портрета Рослена из Большой Гостиной восседала Ариадна Ивановна Мягкотелова. Её назначили хранителем музея тоже после смерти Павла Николаевича до этого и должности такой не было. Старый директор исполнял все должности, так как музей был самой низкой, IV категории, а потому штатное расписание и зарплаты были мизерные. Насколько я понимаю теперь, Павел Николаевич вполне сознательно не добивался более высоких категорий, надеясь таким образом спасти Дом от массового потока организованного туризма и неотвратимого в таком случае разрушения. Последний владелец имения умер уже при советской власти и был погребён у стены бывшей приусадебной церкви, расположенной на краю оврага за оградою парка. В бывшем домике священника жила Ариадна Ивановна. Когда-то, десять лет назад, она училась или на физфаке, или на мехмате, точно не знаю. Родилась и выросла в станице Верской, и, как она любила рассказывать, там, в глуши «диких донских степей», сумела взрастить в себе первые ростки интеллигентности. А уж здесь, в Сурминовском «литературном гнезде», из рук самого Павла Николаевича удостоилась воспринять «венцы культуры». Слушая её рассказы, я сначала вздрагивала от этих «диких степей» и «венцов культуры». Но потом привыкла.
Вошла Соня, извинилась за опоздание и устроилась на краешке стула. Маленькая, худенькая женщина с острыми чертами лица и в очках. Живые черные глаза и веселый нрав южанки придавали ей очарования, но она была истомлена. Участь её была тяжёлой: она была женой очень талантливого, но пока непризнанного художника. Он писал картины в новейшем духе, что-то вроде «белое на белом» – по правде сказать, я плохо в подобной живописи разбираюсь. А недавно случилась беда: он упал с четвертого этажа и сломал позвоночник. Соня безропотно ухаживала за ним и с фанатичной уверенностью ждала его признания и мировой славы. Рядом с Лизой сияла жизнерадостным лицом Зинаида, по образованию радиотехник, а по влечению сердца поклонница русской литературы. Она бросила свою прежнюю работу инженера и устроилась в музей экскурсоводом.
Рядом с ней с пышной прической и приличествующей случаю строгостью в глазах сидела экскурсовод Вера Павловна, бывшая медсестра из Ломакина, страстная поклонница Пушкина. Я, кстати, тоже была из бывших. Всю жизнь работала геофизиком и геологом, каждое лето ездила в поле, но давно мечтала стать архивариусом. Наконец, год назад, когда мне было уже сорок лет, моя мечта исполнилась, и я стала работать в музее. Мало того, мне поручили составить Опись документов родового Архива, как оказалось, чрезвычайно любопытного. Рядом с Ариадной Ивановной сидела Лора Александровна, совсем нестарая женщина, но старейший работник музея. По образованию филолог, она пришла в музей сразу по окончании университета. Павел Николаевич позволил ей жить в отдельном домике, бывшей Летней Кухне в глубине парка.
Не хватало только Ульяны Байковой. Ульяной она, правда, стала после крещения в Ломакинской церкви, а до этого её звали просто Лина. Это была личность замысловатая. Умная, начитанная и хитрая, она производила странное впечатление. Особенно из-за явно нарочитой манеры произносить слова растянуто, ироническим тоном, с неопределенной улыбкой на узких темных губах. Лина всю ночь читала, пила кофе, много курила и сыпала пепел на книги и на пол. Засыпала она под утро, а потому вставала поздно и выходила из бывшего Амбара, где она жила, не ранее 11 часов утра. Вот и сегодня она появилась последней и уселась на ручку кресла, в котором, развалясь, сидел Григорий Ильич.
– Грегуар, как я рада вас видеть, мон шер, – почти пропела она.
Новый директор растерянно оглянулся, видимо, не зная, как реагировать на появление этого существа, с сигаретой, распущенными волосами, в длинной юбке-понёве и яркой кофте. Он, хотя и был поэтом, но явно не богемного склада, а вполне положительным выдвиженцем из комсомольских работников. Возможно, ему и вообще-то было не по себе в нашем «зверинце», и, как мне кажется, он тогда же твердо решил влить новые кадры, так сказать, «молодое вино в старые мехи» – чего, как известно, делать не рекомендуется. При внешнем благодушии его толстого лица и явном старании войти в доверие к подчинённым, в его глазах то и дело вспыхивало раздражение из-за того, что он чувствовал себя не в своей тарелке.
Представляю себе, насколько утомился читатель, рассматривая этот «групповой портрет». Но, будучи автором, я сочла своим непременным долгом именно этот Портрет описать во всех подробностях. Ведь это основные действующие лица романа, к которому мы только-только приступаем. И даже если Вы утомились или не всех запомнили, то теперь получили возможность в любую минуту к этому перечню обратиться. Я и сама впервые так внимательно всех оглядела и внутренне горько усмехнулась, осознав всё несоответствие старой Усадьбы и её новых владельцев.
В зале стало душно. Лина погасила сигарету. Дым от неё медленно пластался кругами в лучах пришедшего в окна солнца. Открыли окно, и тут на подоконник вспрыгнула моя чудная, с белой грудкой и огромными зелеными глазами, кошка Кассандра. Директор даже вздрогнул. В открытое окно донеслось мычание коров с колхозной фермы, лай усадебного пса Феди и жужжание трактора. На поля начинали завозить навоз. Уже знакомая читателю ворона, неутомимая Степанида, уселась на ближайшее дерево и, как обычно, начала нагло каркать. Прошло не менее часа. Директор временами косил глаза на громко мурлыкающую Кассандру. Она вскочила ко мне на колени и при всей своей независимости не могла не выразить радость от нашей встречи после двухнедельной разлуки. Директор вещал:
– Я надеюсь, вы все поддержите мои усилия по переводу музея во вторую категорию. Соответствующие бумаги уже поданы. Как там с этим дела, Витольд Измайлович?
Витольд стал перекладывать бумажки пред собой, изобразил чрезвычайную деловитость, притушил обычную для него усмешку и привычным жестом спрятал ее куда-то в самый конец бороды.
– Докладная в Управление уже подана, Леонид Наумыч, – ответил он. – К следующему понедельнику обещали подписать приказ о переводе Музея во вторую категорию и о новом штатном расписании. Эмма Львовна клялась мне, что всё сделает.
– Вы все должны понять, – голос директора окреп, – что по-прежнему работать недопустимо. Новая категория даст нам возможность расширить штаты, повысить оклады, но, главное, увеличить число посетителей, добиться дополнительного финансирования и приступить к реконструкции Усадьбы. Я тут за неделю кое-что осмотрел. Парк заброшен, в музее нет автотранспорта, нет рабочих помещений для сотрудников. Дом не отапливается и не освещен, поэтому зимой Музей не работает. Это нерентабельно. Нет благоустроенного туалета, нет буфета – короче, для посетителей нет элементарных удобств. К тому же и экспозиция идеологически устарела….
– Позвольте вас перебить, уважаемый Леонид Наумыч, – заговорила высоким голосом Ариадна Ивановна, и лицо ее покрылось красными пятнами. – Я вовсе не против второй категории, но, прошу вас, – не трогайте Дом! Это жемчужина русской культуры. Вспомните, что сказал Максимилиан Волошин еще в 1921 году после посещения Усадьбы.
Директор явно не знал, а потому и не мог вспомнить, что сказал, скорее всего, неизвестный ему Максимилиан Волошин, зато твердо знал, что вторая категория позволяет повысить оклады администрации. Собственно, на этом условии он и принял «портфель» директора. «Повысить оклады», конечно, не всем сотрудникам, а только администрации. Научные сотрудники и экскурсоводы должны будут водить экскурсии за ту же зарплату – 75-100 рублей в месяц. Вот почему уроженка «диких степей» не была против повышения категории – её должность хранителя музея входила в число административных.
– Хорошо. Дом пока трогать не будем, – быстро согласился директор, видимо, не желая портить отношения с Ариадной, и продолжил. – Предлагаю начать с восстановления на лугу мемориального Сарая. В нём мы сможем устроить выставку-шоу, с применением современных технологий, таких как светомузыка и голография. На пруду можно заново построить пильную Мельницу. Предлагаю устроить в ней кафе для экскурсантов. Знаете, как это умеют делать в Риге и в Таллине? Эдакое интимное кафе с ликерами и камином.
– Пильная мельница и камин? Это нонсенс, – проговорила Лина и закурила.
– Можно очаг вместо камина! – тут же уступил директор и бодро продолжил: Его глаза заволоклись неким «поэтическим» вдохновением. – Мы должны всё музеефицировать. Например, в Доме пустует бывшая Кухня. Витольд Измайлович берётся расставить в ней предметы кухонного быта, горшки всякие и прочее… Мы сделаем в неё отдельный вход и сможем брать с посетителей дополнительную плату в 20 копеек. Опять же, доход.
Лиза с тревогой смотрела на мою, видимо мрачную, физиономию и приложила к губам палец, умоляя глазами, чтобы я молчала. Но я не выдержала и вступила на тропу войны.
– У меня тоже есть предложение. Давайте музеефицируем дореволюционный Water—closet, – заговорила я подчеркнуто деловитым тоном. – По этому объекту в архиве есть документы за 1912 год. Само собой разумеется, в него придется сделать отдельный вход и плату установить в 10 копеек. Витольд Измайлович, прошу вас записать в протокол моё предложение.
Директор, опьяненный грядущими возможностями повышения дохода, не почувствовал подвоха и взглянул на меня с одобрением.
– Простите, я не знаю, как вас зовут, – обратился он ко мне.
– Мария Михайловна Серёгина.
– Так вот, Мария Михайловна, мы учтем ваше предложение и…
Но тут в зале раздались смешки, и он сообразил, в чем дело. Вера Павловна была у нас единственным до этого времени членом Партии. Она сочла нужным вмешаться и резко встала со стула, чтобы защитить сочлена по рядам.
– Уважаемая Мария Михайловна, вы переходите всякие границы! – с надрывом в голосе произнесла она. – Леонид Наумыч у нас человек новый. Возможно, он увлёкся, но в его предложениях много правильного. Не забывайте, что на последнем Пленуме Партия нацелила нас не только на повышение рабочей дисциплины, но и на более рентабельное ведение народного хозяйства. Долг каждого советского человека внести свой вклад… Опасаясь, что она не сможет остановиться, я перебила её и добавила масла в огонь.
– Вера Павловна, вот я и вношу свой вклад. К Первому Мая берусь вне плана разработать научно обоснованную экспозицию нового объекта музейного показа.
На этом первая планерка закончилась. К нашему счастью, она оказалась и последней. Мы вырвались на волю.
На дворе между кучами угля около котельной текли и блестели на солнце мелкие ручейки. С длинных прозрачных сосулек быстро-быстро падали капли и звенели, падая на жесть подоконников. Вездесущая Степанида опять каркала, на этот раз, прыгая и размахивая крыльями вокруг миски, из которой пёс Федя долизывал пшённую кашу. Моя тёзка, шкодливая и оборванная усадебная кошка Машка, вылезла из дыры под Амбаром, уселась на теплое бревно, подняла лапу «пистолетом» и начала облизывать место под хвостом. Кассандра, сидя у меня на плече, негодующе заурчала и от возмущения спрыгнула на землю. Тут же она вскочила на штабель темно-красного кирпича и, помахивая хвостом, прошлась по верху кладки. Уселась и строго взглянула на нас зелеными глазами.
– Ах, готика! – воскликнула Ариадна Ивановна, и мне почудилось сияние «венцов» над её головой.
Директор последовал в дом Распопина, за ними увязался Борзун, а мы вернулись во Флигель в комнату Лизы и оживленно приступили к чаепитию.
В тот же день закончилась и наша прежняя усадебная жизнь. Солнце затянуло перистыми облаками. Вечером пошел мокрый снег. Лиза старательно играла 33-й этюд Гедике. Я сидела у себя в комнате, куталась в плед и при свете настольной лампы с наслаждением читала обыденную переписку Дарьи Федоровны Олениной с дочерью-невестой, засидевшейся в девушках 22-летней Анной. Её женихом стал мировой посредник Можайского уезда Иван Иванович Лёвшин. Семья готовилась к свадьбе. Там, в давно исчезнувшем мире, шел 1881-й год. Только что, 1 марта, был убит террористами император Александр II Освободитель, но в письмах об этом событии не говорилось. Иногда казалось, что за столетие почти ничего не изменилось: где-то идут войны и убивают президентов, а в жизни нормальных людей главными остаются всё те же житейские хлопоты и волнения, те же мечты о счастье и та же их несбыточность.
ГЛАВА ВТОРАЯ
ПЕЙЗАЖ
Ты помнишь ли, Мария,
Один старинный дом
И липы вековые
Над дремлющим прудом?
А. К. Толстой, 1840-е
¯Перечитывая первую главу, Автор понял, что совершил ошибку, назначив «первым лицом» Марию Михайловну. Прежде всего, потому, что мы с ней совсем не похожи, и Автору трудно быть ею еще на сотне страниц. К тому же изложение от «первого лица» обязывает меня, во всяком случае, присутствовать при всех событиях, а то и участвовать в них. Но это нереально ведь о многих фактах и разговорах я знаю только понаслышке. Переписывать первую главу не хочется. Поэтому я просто отказываюсь быть Марией Михайловной и с этого момента перехожу к изложению от третьего лица.
Так или иначе, но время и действующие лица описаны. Теперь, как и положено, приступим к описанию места. Тут сразу в голову лезут выдержки из экскурсии, текст которой сотрудники музея от частого повторения говорили почти автоматически.
«Мы с вами находимся в типичной Усадьбе конца XVIII – начала XIX века. Усадебный дом в псевдоготическом стиле, парк с липовыми аллеями, статуями и обелисками, Эрмитажем и Гротом… А вот девушка с разбитым кувшином. Перед фасадом Дома вы видите партер с фонтаном посередине, а за ним широкая лестница спускается к пруду. За ним амфитеатром высятся холмы. Посреди пруда находится островок. Он называется «Приют любви». Когда-то в южной части пруда, там, где речка Ирпень перегорожена плотиной, стояла Мельница. Позади главного Дома расположены Флигель и хозяйственные постройки, такие как Конный двор, Амбар и Оранжерея. За оградой парка, но в непосредственной близости от въездных ворот стоит Церковь – памятник культуры начала XIX века».
При этом кто-либо из экскурсантов обязательно горько и завистливо произносил: «Эх, умели жить баре»… Не обращая внимания на подобные реплики, экскурсоводы бодро продолжали сообщать никому не интересные подробности: «Поблизости видны сёла: налево Сурминово, направо Чиркино. В трёх верстах отсюда в бывшей усадьбе Олениных расположен санаторий Министерства Вооруженных сил. Сурминово с конца XVIII века принадлежало древнему роду Камыниных, а они были в родстве с Арсеньевыми. Вы, наверное, помните, что бабушка Лермонтова тоже была Арсеньевой. И хотя с нашими Арсеньевыми она была в дальнем родстве, но, по мнению лермонтоведов, предположение о том, что бабушка поэта в 1820-е годы бывала в Сурминове, «вполне правдоподобно». Вепрятно, она бывала не одна, а с маленьким внуком. Поэтому наш музей и называется «Музей-усадьба имени М.Ю. Лермонтова…»
Сразу хочу заметить, что ничего достоверного о визитах бабушки с внуком в Сурминово науке не известно. Миф о причастности Лермонтова к Сурминову сложился еще до революции. Со временем он «вошёл в научный оборот» и стал достоянием общественности. Чтобы придать этому мифу еще большую достоверность, в Доме устроили даже особую «комнату Лермонтова» и показывали в ней диван, на котором он будто бы спал. Конечно, сам по себе миф о пребывании поэта в Сурминове большого значения не имеет. Но на его примере видно, как работает механизм создания разного рода литературно-исторических подделок.
Гораздо большее значение для развития сюжета представляют сведения о родословно-масонских связях владельцев Усадьбы. Василий Дмитриевич Камынин был известным в узких кругах масоном-розенкрейцером, членом ложи Теоретический градус. Его «братьями» по духу были такие рыцари Розового Креста, как Н.И. Новиков, И.А. Поздеев, С.И. Гамалея, И. Шварц, С.П. Фонвизин, В.А. Бибиков, П.И. Татищев, И.Н. Тургенев. Знатоки русской истории могли бы вместе с Фамусовым воскликнуть: «Ба! Знакомые все лица!» И что самое интересное, лица, игравшие заметные роли в истории Российской Империи.
В.Д. Камынин был женат на дочери своего «брата» по ложе, рыцаря В.А. Лёвшина. Родовое имение Лёвшиных находилось в Тульской губернии, в селе Темрянь Белёвского уезда. Накануне 1812 года усадебный дом сгорел, и, пока строился их новый дом, Лёвшины семь лет прожили в Сурминове. Старшая дочь В.Д. Камынина, Анастасия, вышла замуж за «брата» отца по ложе, тоже розенкрейцера, рыцаря Г.Н. Коробьина. Младшая дочь, Надежда, стала женой еще одного «брата» и рыцаря, С.Н. Арсеньева. После смерти жены он тоже жил у тестя в Сурминове. Их сын и, значит, внук Камынина, В.С. Арсеньев, тоже стал рыцарем в Теоретическом градусе. Он был камергер, крупный землевладелец и богослов, благодаря чему, вероятно, смог оказать влияние на создание Ордена Мартинистов в России в начале XX века.
Остаётся добавить, что после 1822 года, когда розенкрейцерам пришлось уйти в подполье, их «работа» не прекращалась, а местом собрания могла служить любая усадьба. Гостеприимное Сурминово, несомненно, было таким «масонским подворьем». Неудивительно поэтому, что именно здесь постепенно сложилось ценнейшее собрание масонских документов. В XIX веке, по понятным причинам, эти документы не были доступны постороннему взгляду «профана». Однако и после революции положение осталось прежним. Усадьбе, а вместе с ней и Архиву повезло: так получилось, что директорами музея до последнего времени были потомки бывших владельцев.
Как никто другой, они понимали нежелательность масонской темы в музейной экскурсии, а потому превратили Сурминово из «масонского подворья» в «литературное гнездо» и дали музею имя великого поэта. Но так как мы не на экскурсии, а «в романе», то позволим себе всё же сказать правду. Тем более что без неё не обойтись в дальнейшем рассказе. Всё в Усадьбе определялось именно масонскими вкусами, символикой и идеологией. «Масонскими» были план, архитектура и декор главного Дома. При этом их символическое значение было понятно только «посвященным». Большая часть Библиотеки состояла из книг мистиков XVIII века, таких как Бёме, Виланд, Сведенборг. В Архиве хранились печатные и переписанные от руки Уставы, акты, обрядники, речи и беседы рыцарей Розового Креста, их песни и стихотворения, протоколы заседаний и прочее. В Столовой, где в XIX веке проходили их заседания, совершались тайные посвящения, о чем напоминали две колонны.
Экспозицию украшали рисунки «американца» Федора Толстого, живописные портреты В.А. Жуковского; князя-католика И.С. Гагарина – ценителя и собеседника Ф.И. Тютчева в Мюнхене; обер-прокурора графа А.И. Мусина-Пушкина. Именно он нашел и в 1800 году издал «Ироическую песнь о князе Игоре». Эта песнь ныне известна под названием «Слово о полку Игореве», а её содержание – по либретто оперы «Князь Игорь». Да, кого из «братьев» здесь только не было!
Потомок Арсеньевых, «последний розенкрейцер», еще до революции стал профессиональным антикваром, участвовал в заседаниях и аукционах Общества любителей старины, собрал большую коллекцию фарфора. Там, в Обществе любителей старины, он встречался с известными московскими коллекционерами – доктором В.В. Величко и внуком поэта, Н.И. Тютчевым. Как только случилась революция, Арсеньев вывез свои сокровища из Москвы, подальше от «культурной революции», в глушь Можайского уезда и здесь создал действительно талантливое произведение – сурминовский Музей. Из «мемориальных» и подлинных вещей – мебели, фарфора, портретов и умело нанизанных на экскурсионную нить полуправдивых фактов и ассоциаций – он сумел создать образ Усадьбы, «типичной усадьбы XIX века». Все очарование Сурминовского Дома покоилось именно на ощущении «подлинности», живого приобщения к давно ушедшему миру и быту русской дворянской усадьбы.
Как правдоподобно звучали в залах, гостиных и кабинетах рассказы об Обществе любителей российской словесности; о весёлом обществе «Арзамас» (смотрим на портреты Жуковского и А.С. Пушкина, гравюра Уткина); об историке Н.М. Карамзине, который, «возможно, бывал в Сурминове и, гуляя по аллеям парка, обдумывал главы своей «Истории Государства Российского»«. Плавный переход к поэзии Е.А. Баратынского посетители совершали, разглядывая портрет розенкрейцера П.А. Татищева, на внучке которого был женат поэт. О памятнике русской словесности XII столетия «Слове о полку Игореве» говорилось около портрета графа А.И. Мусина-Пушкина… и так далее, и тому подобное. Не забыты были и «великий просветитель» Н.И. Новиков, который «провел свои лучшие годы в Шлиссельбургской крепости», и «первый русский писатель-революционер» А.Н. Радищев. Портрет отца трёх декабристов, розенкрейцера И.П. Тургенева давал возможность, упомянув его «дальнее родство с Иваном Сергеевичем» (не установленное), показать портрет подруги писателя, актрисы Полины Виардо. Рядом висит портрет еще одной дамы, хотя и неизвестной, однако же, как предполагают искусствоведы, это и есть «первая любовь поэта Ф.И. Тютчева, красавица Амалия Крюденер». Тут все экскурсоводы с большим чувством читают наизусть (хорошо хоть не поют романс!) известное стихотворение «Я встретил Вас и всё былое…». И хотя до сих пор не установлено, какой даме поэт посвятил это стихотворение, тютчеведы уверяют, что именно ей, Амалии.
Словом, Сурминово представлено неким сгустком русской культуры. И, конечно, ни слова о масонах, так, иногда вскользь, с милой улыбкой можно упомянуть об их шалостях и развить тему о декабристах, чтобы подчеркнуть, как далеки они были от народа.
После экскурсии по дому посетителей ведут по парку, а мы возвращаемся к основной теме этой главы, к Пейзажу. Усадьба и парк, конечно, замечательны, но и вокруг чудо как хорошо. Холм за прудом ранней весной покрыт ярким желтым ковром из одуванчиков, за ним зеленое обрамление – еловый лес, справа – белые стволы березовой рощи и темные прожилки поросших кустарником оврагов. Внизу слева видно скопление серых изб Сурминова, а еще дальше – сельца Чиркино. В солнечную погоду там сияет белизной древняя, XVI века, церковь во имя Рождества Богородицы.
За Сурминовым начинается глухой лес и тянется на восемь верст до села Васильевского. Места глухие, грибные и ягодные; говорят, даже кабаны ходят. Там заросшие густым лесом овраги, тёмные, скрытые в зарослях болотца и тихая речка Ирпень, питающая усадебный пруд.
«Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит…»
Кстати, о русалках. …Нет-нет, сначала скажу о новых кадрах, потому что давно известно, что «кадры решают всё». Новый директор что задумал, то и сделал. Уже через неделю после злополучной планёрки в Усадьбе появился зам. по хозяйству, проворовавшийся на автобазе в Ломакине армянин Папаян. Вскоре, как из-под земли, возник газик, и вместе с ним – шофёр Коля. Затем материализовался совершенно непонятный человек по фамилии Бондарь, в очках и с портфелем. Еще раньше для реставрационных работ были наняты: милейший юноша, химик-аптекарь Саша Розен и сутулый, небольшого роста, «опытный», по словам Ариадны Ивановны, реставратор масляной живописи Миша Снежный. Оба поселились на чердаке во Флигеле и там устроили реставрационную мастерскую, а заодно и ночной притон – к ним из Москвы стали приезжать накрашенные девицы, а наш парк огласился зарубежными ритмами и истеричным хохотом. Но что более страшно – Ариадна Ивановна с какой-то болезненной доверчивостью стала выдавать Мише Снежному по актам довольно ценные полотна на реставрацию, а он увозил их в Москву и где-то там «реставрировал».
Директор и Распопин, ныне зам. по науке, принимали в Зондерхаузе (что в переводе с голландского означает Летний домик) местное райкомовское начальство. Газик ездил по аллеям парка, так же как и черные «Волги» приезжих.
В середине мая Музей открылся для посещения. Сирень расцвела тяжёлыми тёмно-фиолетовыми гроздьями. Вдоль лестницы на спуске в парк свежей зеленью покрылись огромные лиственницы. На мраморных ступенях можно было увидеть их мелкие шишечки и бурые иголки, упавшие осенью. В парке сквозь покров прошлогодних листьев тут и там проглядывали ярко-зеленые ростки новой травы.
Как-то раз, за общим чаепитием, Ариадна Ивановна стала уверять, что не всё так уж плохо, что она, например, сумела добиться от директора разрешения на организацию выставки фарфора в бывшем Конном дворе.
– Мы приручим его, вот увидите. То, что он деловит, − несомненно. Он умеет выбивать стройматериалы, рабочих… В Конном дворе уже заканчивают ремонт, и завтра приедут художники-декораторы из ГДОИ. Это декоративные мастерские, – пояснила Ариадна, заметив, как вздрогнула от уродливого слова Лина Байкова, и продолжала: – Наконец-то у нас будет такая же выставка, как и в других музеях… Я пишу методическую разработку. Рабочее название «Литература и фарфор».
– Литература и фарфор? Какой странный гибрид, не правда ли? – проговорила Лина саркастически.
Ариадна Ивановна обиделась и замолчала.
Мария Михайловна заметила, что директор умеет выбивать не только стройматериалы, но и неугодных ему сотрудников. Действительно, ей это пришлось испытать на себе. Новый директор заявил, что запрещает проживание сотрудников на территории музея, и первым делом выселил именно её. Пришлось ей снять комнату в Сурминове. Зажиточные жители сдавать не хотели. Согласился лишь музейный дворник дядя Петя, сильно пьющий. Вернее, согласился не он сам, а его сестра сдала свою пристройку к Петиной избе за неимоверно высокую плату, 30 рублей в месяц. На что же будет жить Мария Михайловна? Она, правда, подрабатывала переводами и какими-то рефератами, но на это не проживёшь. Однако она держалась твердо и не раз говорила Ариадне и Лоре, что бандитам нельзя уступать ни на йоту.
Нельзя допустить, чтобы Музей стал источником дохода. Если идти с ними на соглашение, то «новые люди» с их пресловутой предприимчивостью сумеют растлить тот дух бескорыстия, который сохранился еще кое-где посреди захлестнувшего страну океана пошлости, невежества и жажды наживы. Но, видно, растление коснулось уже тогда многих из них.
Соня затеяла строить каменный дом в Вавилове. Директор через Ломакинский исполком добился для неё выделения участка и пообещал достать кирпич. Лоре он милостиво разрешил по-прежнему жить в Летней Кухне. Ариадну Ивановну подкупил выставкой фарфора. Вера Павловна как член Партии считала своим долгом поддерживать решения начальства. С приходом новых кадров в музее впервые появилась партийная ячейка в составе директора, его зама Папаяна, Веры Павловны и таинственного Бондаря. К концу мая директор «выбил», то есть уволил, опытного садовника под предлогом отсутствия у него специального образования. Зато он добился в Управлении новой ставки заведующего отделом Садово-паркового хозяйства, и Бондарь занял это место. Чем он занимался, никому не было известно, – во всяком случае, к клумбам и куртинам он и близко не подходил. Теперь филологам приходилось самим поливать цветы в жаркие дни.
Разрушался Дом, увядал сад. Кто из музейных не знал, что за внешним благополучием Усадьбы скрывались явные и устрашающие признаки разрушения? В Доме стены покрывались плесенью, глубокие трещины бороздили потолки. Два года тому назад очередная комиссия запретила водить посетителей по второму этажу, потому что потолок в Большой Гостиной угрожал рухнуть вместе с тяжелой медной люстрой. Плесень проникала в книжные шкафы, покрывала листы гравюр и архивных документов. В дождливые дни протечки на втором этаже доходили до того, что из пропитанной водой штукатурки на паркет падали известковые капли.
Все понимали, что нужно срочно строить помещение для хранения фондов, составлять проект реставрации или, говоря попросту, приступить к ремонту здания. Понимали, но что могли сделать эти слабые и беспомощные люди? У каждого из них были свои беды и тяготы. Ариадна часто болела, но у неё, по крайней мере, было пристанище в Москве — комнатушка в коммуналке. А Лина была бездомная. Она покинула свой любимый Ленинград из-за какой-то сердечной драмы. Старый директор, Павел Николаевич, взял ее на работу вопреки жестким правилам о прописке и позволил жить в отапливаемом печкой Амбаре. Новый директор уже пригрозил Лине увольнением, если у нее не будет постоянной прописки. И она больна — у нее что-то с легкими.
Наступил июнь. Под окнами Синей гостиной мелкими пахучими цветками рассыпался жасмин. Куртины набухли тяжелыми бутонами роз. Липы готовились благоухать, но пока лишь чудно высвечивались в косых лучах заходящего солнца их покрытые мхом мощные стволы.
К Марии Михайловне приехала погостить её племянница, Елена Скребницкая. Она училась в Консерватории и приехала в Сурминово на каникулы, потому что здесь имела возможность целыми днями играть на рояле. Именно о ней напомнили слова о русалке. Трудно сказать, была ли она красива. Скорее нет, но, без сомнения, была хороша, особенно когда в длинном серебристом платье шла по аллее с ведром к усадебному колодцу. Длинные волосы, темные серые глаза, матовое нервное лицо, тонкие руки.
Где-то в середине июня Елена согласилась дать концерт. К тому времени в парке вдоль узких дорожек на кустах распустились мелкие белые розы. Так началось наше последнее лето в Сурминове. Но мы тогда не знали, что оно последнее.
На концерт из Москвы приехали друзья и знакомые, некоторые даже с детьми. Окна в зале были открыты. Рояль тоже. Елена начала с любимого ею Баха. «Хорошо темперированный клавир» – ровным голосом проговорила Елена, и концерт начался. Лиза, тоже в длинном вечернем платье, переворачивала страницы нот. Потом Елена сыграла сонату Моцарта и перешла к романтикам. Что говорить, Шуман и Шопен ей удавались даже лучше Баха. Сказывалась ли её собственная страстная натура? Или они более соответствовали нашему, нервному уже тогда, восприятию мира – нервному, тревожному и беспечному одновременно?
Белые шелковые занавески трепетали, на улице в лучах солнца искрились изумрудными спинками майские (или уже июньские?) жуки, летали стрекозы и бледные бабочки. Жужжание насекомых сливалось с далеким тарахтением трактора – совхоз начал распахивать поросшие одуванчиками холмы. Щебетали мелкие птицы.
Елена кончила играть и теперь раскланивалась – на фоне черного рояля тонкая фигурка в белом полупрозрачном платье. Ей поднесли в низкой фаянсовой вазе с темно-синим узором груду мелких белых роз, и они длинными ветвями свисали через края вазы. Все – и хозяева, и гости – отправились на холм. Перешли плотину и стали подниматься на холм по узкой дорожке. Захватили одеяла, чтобы сидеть на земле, скатерть, чашки и все привезенные из Москвы бутерброды, кексы, торты. Костер уже горел, в его огне чернел покрытый сажей бидон, и милый старик с небольшой бородкой подкладывал в костер дрова. То был старинный друг семьи Марии Михайловны, географ и гляциолог Олег Павлович Чижов.
После чаепития почти все москвичи пошли лесом на станцию, а те, кто остались, еще долго сидели у костра. Постепенно – вместе со светом и теплом этого летнего дня – они замолкали, с тайной грустью глядя на стоящий за прудом Дом. Лине, с её больными лёгкими, конечно, нельзя подолгу сидеть в такие, как сегодня, холодные вечера. Но и она не уходит, а завороженно смотрит на огонь. Что видится ей в весёлых беспокойных язычках пламени?
О чем думала Елизавета Алексеевна, глядя в огонь? Все знали, что её «сердце разбито», как говорили наши бабушки сто лет назад. Предание гласило, что лет пять тому назад какой-то «капитан дальнего плавания», высокий и красивый, пленился ею. Он приходил из санатория, из Оленина, каждый вечер. С молчаливым обожанием смотрел на Лизу, слушая этюды Гедике в гостиной Флигеля. В ту пору Гриша особенно настойчиво приступал к Лизе, капитан всё молчал, а Лиза… Что ж она? Кто знает? «Гордость и предубеждение», роман Джейн Остин – вот в чём отгадка всего. То ли Лиза из гордости делала вид, что он ей безразличен, то ли он из предубеждения уверил себя, что её сердце уже занято? Во всяком случае, как-то осенью он исчез, уехал и ушел в свое «дальнее плавание».
Ужели ОН исчез бесследно? О, нет! То же самое предание утверждало, что как-то раз, весною, ко дню рождения Лизы ей с почты принесли огромную корзину с цветами. «Из Австралии!» с восторгом сообщили ей девушки с почты. На деньги, оставшиеся от перевода, они по собственной инициативе купили плитку шоколада. Они смотрели на Лизу с восхищением, потому что ведь не всякая девушка получает из Австралии! по почте!! корзины цветов!!! А позднее он прислал ей посылку с раковинами, кораллами и игрушечным мишкой коала из шерстки кенгуру. Этот мишка коала и теперь сидит на книжной полке у Лизы в комнате. Нет, капитан, видно, не забывал её, но что толку? Он уехал и не вернулся. И вот уже пять лет Лиза ожидает своего молчаливого рыцаря, но он не догадывается об этом.
Милый старик с бородкой ушел вместе со всеми, а без него костер вскоре прогорел, и остались лишь ярко-красные, мятущиеся по черным дровам мелкие язычки пламени. Закутавшись в одеяла, все сбились вместе, как стая напуганных птиц.
Гриша и тот примолк и тихо перебирал струны своей гитары. Наконец, он не выдержал, встал, кинул в огонь последнюю охапку хвороста, и костер полыхнул. Он запел романс своего любимого Фета «Сияла ночь. Луной был полон сад…» Лиза, стряхнув с себя несвойственную ей печаль, выпрямилась и поддержала его: «…Рояль был весь раскрыт, и струны в нём дрожали, как и сердца у нас за песнею твоей…»
Гриша оживился от всеобщего внимания. Оживилась и Наташа, девушка-практикантка из Ленинграда. Ей, видно, тоже хотелось петь, но в обществе малознакомых людей она не решалась. Гриша, желая её расшевелить, обратился к ней с шутливым предложением: «Какая рифма точная! Наталия, Наталия, поедемте в Италию». Неожиданно для него она с явным удовольствием вступила с ним в стихотворный диалог:
– В Италию? – В Италию.
– Но как достать билет? – Ну, что Вы? Этим летом там можно без билета.
– Куда мы едем? В Рим? – Пожалуй, лучше в Падую – там башней Вас порадую.
– Ну, нет! Я еду в Рим. – Одна? Ни в коем случае. Ведь Вас тоска замучает.
– Положимся на кучера. – Куда ж?
– В пути решим.
У них так ловко вышла эта сценка и шутливые пререкания, что все рассмеялись. Со свойственным ему снобизмом Гриша произнес:
– Надо же! Какие филологи растут на берегах Невы!
Тут же встрепенулась и встала на защиту своего любимого Ленинграда Лина. Она язвительно протянула: «Грегуар, вы, видно, вообразили, что лучшие филологи страны живут на берегах сурминовского пруда?»
Это всех ещё более развеселило. Стали вспоминать, как весело они все вместе встречали Новый год. Мария Михайловна уговорила их ставить пьесу Эдмонда Ростана «Белый ужин». Репетировали весь декабрь. Так же как сегодня, и тогда из Москвы приехали близкие друзья с провизией и ящиком шампанского. Они начали готовить и накрывать стол, пока в зале Флигеля шла генеральная репетиция. Пьеро то и дело меланхолично выпивал глоток из фляжки с коньяком. Арлекин не знал роль. Коломбина нервничала и уверяла, что провалит спектакль. Но пьеса прошла с большим успехом.
После спектакля они вышли из Флигеля в парк и стали копать в снегу глубокие лунки, и на дно каждой поставили свечу. Когда свечи зажгли, тонкий свет от невидимого пламени пронизал снег и заиграл бликами на расставленных в снегу бокалах с шампанским. Сказочное было зрелище! Но вскоре все замёрзли, и пришлось вернуться в дом. Тогда, зимой, Елена тоже играла на рояле, всю ночь они пели романсы и читали вслух любимые стихи. Всех поразила Лина. Она прочитала наизусть длинное стихотворение того же Ростана «Прекрасный вечер».
То чудный вечер был, волшебный, незабвенный…
О нем не вспомнить нам без грусти сокровенной…
А разговор лился изящный и весёлый;
Касались музыки, поэзии всего,
И метафизики…
Кто говорил стихи, кто умолкал, мечтая.
Зажглись огни сигар, и легкий дым гаванн
Головки дам облёк, как голубой туман.
Любовь свободная, глубокая, живая,
Беспечная любовь царила между нас….
―――――
Костер погас окончательно, но расходиться никому не хотелось. Тем более, что луна, наконец, вышла из-за высоких елей, и в её свете мир предстал волшебной сказкой. Все стали просить Байкову опять прочесть это стихотворение, хотя бы несколько строф. Лина с радостью согласилась. Она выбрала строки, созвучные их теперешнему настроению и окружающей обстановке.
Куда-то далеко действительность ушла,
Всё залито луной, и сосен силуэты,
Как бледным бархатом, сиянием одеты…
Листва столетних лип и молодых акаций
Смыкалась в вышине, как сказочный плафон.
В отверстие её смотрели к нам, мерцая,
Далеких звёзд огни, и тихо в этот час
Беспечная любовь царила между нас
И были мы детьми в блаженный этот час…
Подумать только, что всего полгода тому назад все они еще были вместе, любили друг друга. Или им это только казалось? Теперь же они разделились на группы и к наступившим переменам относились по-разному, в зависимости от свойств характера, от личных обид и симпатий, и даже от страха перед будущим.
…И странное всех нас,
Невыразимое охватывало чувство,
Когда мы думали, что скоро без следа
Погибнет это все, погибнет – навсегда.
На этот раз последняя строфа прозвучала более зловеще, чем в Новогоднюю ночь. К тому же Лина вдруг раскашлялась. Все тут же решили идти по домам и стали суетливо собирать пожитки. Поднявшись с бревна, они невольно опять взглянули на черный силуэт Дома. И тотчас они с ужасом заметили, как в окнах Столовой мелькнул свет! Каждый не верил своим глазам. Мария Михайловна, допуская, что у музейных началась коллективная галлюцинация, решила обратиться к стороннему наблюдателю.
– Наташа, – спросила она практикантку из Ленинграда, – вы видите свет в окнах первого этажа?
– Конечно, вижу. Такое впечатление, что там кто-то бродит со свечами или с фонариками, – ответила она.
Ариадна Ивановна в ужасе вся всколыхнулась и запричитала:
– Кто же дежурный? Где же охрана?
Елизавета Алексеевна со свойственным ей при любых обстоятельствах самообладанием спокойно ответила:
– Сегодня дежурит Миша Снежный. И лучше не поднимать шум. Всем нам прекрасно известно, что могут означать эти огни, тем более в Столовой. Не будем обманывать себя. ОНИ проникли в Усадьбу. Сегодня ИХ день, скорее ночь – Ночь под Ивана Купалу.
– Ну и что? – в полном недоумении почти одновременно спросили Елена и Наташа. Глаза у них были расширены от предвкушения тайны.
– Сейчас не время объяснять, – строго заметила Мария Михайловна. – Прошу вас никому не говорить о том, что видели. Это опасно.
– Что ЭТО? Вы намекаете на пресловутых масонов? – насмешливо произнёс Гриша. – Марья Михайловна, ну нельзя же так. Это не серьезно. Вы прекрасно знаете, что в Советском Союзе их нет и быть не может.
– А вы, Григорий Ильич, разве не знаете, ЧЕМ было Сурминово для розенкрейцеров до революции? – возразила Мария Михайловна. – После революции их ложи продолжали «работать» до начала 30-х годов. Чекисты охотились за ними и многих арестовали, но ведь, наверное, не всех. Те, кто пережил репрессии, вероятнее всего, успели посвятить в масоны своих детей. Могут «проснуться» старые ложи или возникнуть новые. Для новых розенкрейцеров Сурминово, и особенно Архив, могут представлять огромный интерес.
– Но в чем вы видите опасность? не сдавался Гриша. – Они, что же, по-вашему, могут его выкрасть? Каким образом?
– Гриша, вы, наверное, читали роман Писемского «Масоны»? – с необычной для неё серьёзностью спросила Лина. – Там описано, какими средствами масоны добиваются своих целей. Любыми. В первую очередь они внедряют своих людей во властные структуры. В нашем случае они могли внедриться и в Министерство Культуры, и в штат Управления, и в администрацию Музея. Это позволяет им на низшие должности ставить послушных им технических исполнителей. Если это так, то поднимать шум из-за огней в Столовой действительно опасно. Надо полагать, что мы им и так, одним своим присутствием, мешаем.
Так странно кончился этот вечер. ″И длинной вереницею″ они стали спускаться с холма. Луна светила сзади, и резкие тени от елей легли не землю. Впереди в лунном свете сверкнули два зеленых огонька. При ближайшем рассмотрении оказалось, что на дорожке сидит Кассандра, терпеливо ожидая свою хозяйку. Увидев Марию Михайловну, она тотчас вскочила к ней на плечо. Перешли плотину и разошлись в разные стороны. Мария Михайловна с Еленой пошли в дом дяди Пети, а остальные в Усадьбу.
kkkkkkkkkkkkkkkkk
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ФАРФОР
На столике в вазочке севрской
Поправь бледно-жёлтый жасмин.
Старинный романс
%На выходные дни Маша, как всегда, уехала домой, в Москву. Сразу по приезде она позвонила своему двоюродному брату, Виктору Скребницкому, верному другу с детских лет, и попросила приехать к ней сегодня же. Он ни о чем не расспрашивал и обещал приехать через два часа.
Мария Михайловна жила в однокомнатной квартире на окраине Москвы. Она жила одна, но нельзя сказать, что одиноко. На выходные дни к ней приезжала её мама, часто приходили друзья, а на праздники из Саратова приезжала её самая близкая подруга, Верочка. Правда, с поступлением на работу в загородный музей обычный порядок жизни нарушился. Теперь, когда почти всю неделю её не было в Москве, визиты переместились в Сурминово. На два дома жить стало несколько сложнее. Каждый раз приходилось в двух местах заново заводить хозяйство.
Первым делом она настежь открыла окна, кинулась протирать пыль, поставила варить картошку в мундире и кипятить чайник.
Виктор, как всегда, был точен. Она усадила его в кресло, принесла кофе, печенье и пепельницу. Сделав краткий обзор событий в музее за последние месяцы, она подробно изложила ему свои подозрения в отношении Миши Снежного и Розена и закончила описанием странной истории с огоньками в Столовой.
Виктор терпеливо выслушал, но явно не понял, в чём проблема. Маше пришлось долго объяснять ему, почему Столовая в сурминовском Доме не простая комната, а помещение, специально оборудованное для собраний масонской ложи. Тем, кто проник в Дом, могло быть известно назначение этой комнаты, и они проникли в Дом, чтобы совершить там свои тайные ритуалы.
– Маша, ты прекрасно знаешь, что я к твоим розыскам по истории масонства отношусь скептически. Скажи, в чём ты усматриваешь конкретную опасность?
– Больше всего я боюсь за Архив. Всем известно, что в библиотеках постоянно воруют ценные книги, в художественных галереях – картины. Но о том, что воруют документы из архивов, широкой публике неизвестно. А их воруют даже из крупных Государственных архивов, не говоря уж о провинциальных музейных хранениях. Мне рассказывали, что недавно в Ленинграде начался судебный процесс по делу о краже документов из Центрального Архива известным доктором наук. А в Москве арестовали группу архивистов, которые, пользуясь служебным положением, во время контрольных проверок воровали целые дела из музейных хранений.
– Положим, книги и картины можно продать коллекционерам, но документы? Кому, кроме специалистов, они могут понадобиться? – спросил Виктор.
– Дело в том, что на Западе бизнес на продаже художественных ценностей давно процветает. У нас он тоже стал набирать обороты. Но, сам понимаешь, что у нас в стране внутренний рынок для сбыта весьма ограничен. Поэтому ворованное переправляют, как правило, за границу. Конечно, подобные операции можно осуществлять только при условии, если исполнителей прикрывают люди, занимающие очень высокие должности.
– Это понятно. Но скажи, Маша, кому, кроме тебя, могут быть интересны документы семейного архива каких-то Камыниных? – продолжал допытываться Виктор.
– Скажу, – устало проговорила Маша, – хотя я это тебе уже несколько раз объясняла. Архив в Сурминове не столько семейный, сколько масонский. Посему он представляет огромную ценность не только для потомков Камыниных, живущих в Советском Союзе, но и для потомков тех розенкрейцеров, которые в свое время эмигрировали на Запад.
– И ты думаешь, они знают о том, что этот архив сохранился?
– До недавнего времени, может быть, и не знали. Архивом никто не занимался, о его существовании почти никто не знал. Но ситуация резко изменилась после смерти Павла Николаевича. Доступ к архиву получили многие, в частности, здесь побывали и те самые контролеры, о которых я тебе сказала. Это случилось до моего прихода в музей. Возможно, уже тогда они кое-что «позаимствовали». Проверить это нет никакой возможности, потому что нет Описи дел. Так или иначе, я просто нутром чувствую, что с приходом нового директора в Сурминове началась какая-то мышиная возня.
– Маша, чем я могу тебе помочь?
– Мне кажется, что там замышляется если не преступление, то нечто, близкое к нему. Возможно даже, оно уже не только замышляется, но и совершается. Я попросту боюсь, а посоветоваться мне не с кем. Конечно, я могу всё рассказать маме, но она начнёт волноваться. Поэтому я и выбрала тебя. Ты ведь не бывал в Сурминове?
– Бывал.
– Ты бывал? Когда же это?
– Давно. Ты еще тогда там не работала.
– Вот новости. Когда же?
– Это к делу не относится.
– Нет уж. Теперь скажи, когда? Все может относиться к делу.
– Маша, мне об этом говорить не хочется.
– Но это же не государственная тайна, в конце концов!
Она задумалась и в рассеянности взглянула в окно. День стоял жаркий, напротив белели раскаленные на солнце дома-близнецы. Она встала и задернула занавеску, чтобы не видеть эти камеры-соты.
– Раз так, то я сама тебе скажу, когда ты там бывал: не позднее лета 1975 года, – решительно заявила Маша.
Виктор смутился и спросил:
– Откуда ты знаешь?
– Я не знаю, но сейчас вычислила. Осенью 1975 года ты уехал во Владивосток, вернулся в Москву полгода назад. Ко мне в Сурминово ни разу не приезжал, хотя все знакомые уже у меня там перебывали. Вчера даже на концерт Елены не приехал. Мне бы хотелось, чтобы ты и теперь там бывал, но чтобы никто не знал, что ты мой родственник. Скажи, знаешь ли ты кого-нибудь из музейных?
– Ты вычислила верно. Летом 1975 года я отдыхал в санатории, в Оленине. В музей ходил часто. Знаю Витольда, Григория Ильича, Елизавету Алексеевну…
– Лизу знаешь? В таком случае ты можешь появиться в Усадьбе не через меня, а как старый знакомый Лизы и Гриши.
Виктор молчал. Глаза опустил и как-то замкнулся весь. Маша даже растерялась и в полном недоумении спросила:
– Что тут сложного? Приедешь, по старой памяти зайдешь во Флигель, хотя бы к Грише, например, – он человек общительный.
– Нет.
– Господи, почему нет? Ну, хочешь, я тебе телефон Лизы дам. Позвонишь ей, скажешь, вот, мол, хотелось бы опять в Сурминове побывать. Что-нибудь вроде этого.
– Телефон Елизаветы Алексеевны я знаю.
– Ах, так? Вот и звони сейчас. Она сегодня в Москве, мы вместе ехали на выходные… Впрочем, если тебе так уж не хочется, то оставим это. Я просто надеялась, что ты согласишься мне помочь – одной трудно, и страшновато.
– Хорошо. Я позвоню.
– Звони сейчас. Я пойду еще сварю кофе.
Она вышла. Терпеливо ждала, пока вскипит. И вдруг её осенило: «капитан дальнего плавания», «разбитое сердце», «цветы из Австралии», «красивый и высокий» – всё это так. Но Виктор вовсе не капитан, он просто военный гидрограф. В Австралии он действительно был, и это, конечно, в его духе – прислать цветы по почте. Высокий? Пожалуй, да, но красивый? Впрочем, об этом не ей судить. В результате кофе, как всегда, выкипел и залил плиту. Она вернулась в комнату, разлила кофе в чашки и стала разглядывать Виктора. Он сидел в кресле и молчал.
– Что ты меня разглядываешь?
– Не могу решить, красивый ты или нет.
– Маша, ты совсем с ума сошла, право. В твои планы входит, чтобы я еще и красивым был? Вряд ли я и это требование смогу исполнить. Я позвонил.
Опять молчание. Маша терпеливо ждала продолжения, зная его манеру говорить; вернее, не говорить – действительно «партизан», как звала его бабушка когда-то. Клещами из него ничего не вытянешь. Она опять на него внимательно посмотрела. Он приехал не в форме, а в светлой рубашке; лицо узкое, смуглое от загара, седеющий ежик волос; глаза светлые, строгие – ничего особенного. Наконец, она не выдержала и спросила: «Виктор, что же Лиза? Вспомнила тебя?»
– Да, – ответил он. И опять молчит. Наказание какое-то.
– Ты будешь говорить или нет? С тобой действительно с ума сойти можно.
– Елизавета Алексеевна сказала, что недели через три у вас откроется выставка фарфора. Пригласила приехать на открытие.
– И что же ты решил?
– Я поеду завтра.
«Ого! – Маша обрадовалась чисто по-женски. Даже о масонах забыла. – Это он, это он! Раз едет завтра, значит, это он и есть». Тут же её мысли направились в романтическое русло. Через минуту она уже выдала Лизу замуж за Виктора, еще через две вообразила рождение детей. Словом, представила всё, о чем мечтают женщины, когда заметят хотя бы самое начало, пробуждение взаимных симпатий между мужчиной и женщиной. Еще через минуту она уже не просто мечтала, а ликовала. Еле сдержалась, чтобы не высказать всё это вслух.
– Ты что улыбаешься? Марья! Сама просила, теперь улыбаться начала.
– Я улыбаюсь? Не выдумывай. Всё складывается хорошо. Одно только непонятно. Разве Лиза завтра будет в музее?
– Будет. Ваша Ариадна умоляла её помочь с выставкой – из Москвы какие-то художники должны приехать, их принимать нужно.
– Замечательно. Заодно осмотришь Конный двор. Ты его помнишь?
– Помню. Где-то на краю парка, у оврага. Такое странное шестиугольное здание. Кстати, скажи, почему в старину любили строить шестиугольные конюшни? Мне кажется, похожие строения я видел ещё в Марфине и в Середникове.
– Какой ты приметливый! – удивилась Маша и пояснила: – Шестиугольник у масонов символизирует «Щит Давида», по-еврейски «Могин Довид». В Шотландском масонстве этот «щит» – эмблема 26 градуса. Однако конюшни – частность. Гораздо интереснее то, что усадебные ансамбли похожи друг на друга в целом: будто они строились по типовому проекту одним Великим Архитектором.
– Опять на масонов намекаешь? Ведь такого рода схожесть разумнее объяснить просто модой на тот или иной архитектурный стиль. Не так ли?
– Я не намекаю, а говорю прямо, – категорическим тоном проговорила Маша. – Согласна, что многое объясняется модой, то есть бездумным копированием популярных образцов. Но в самих образцах всё было продумано до мелочей.
– Что всё?
– Поясню на одном примере. Ты бывал в Кускове?
– Бывал, и не раз. Там замечательный парк.
– Вот-вот. Именно замечательный, а особенно своей планировкой. Дело в том, что с земли мы не видим весь парк в целом. И только вид сверху, с крыши дома или на плане, позволяет увидеть чертеж, по которому с геометрической точностью проложена сеть аллей, дорожек и кругов в местах их пересечений. Хочешь, я тебе покажу план этого парка?
Не дожидаясь ответа, Маша тотчас кинулась к секретеру и стала рыться в ворохе бумаг. Виктор понял, что попался. По опыту он знал, что теперь Машу не остановить, а потому смирился и стал терпеливо ждать. Как ни странно, план, несмотря на жуткий беспорядок, всё же отыскался. Они стали вместе его разглядывать. Виктор ничего особенного в нём не узрел, но, когда Маша положила рядом чертёж какой-то фигуры с непонятными надписями, ему стало ясно, к чему она вела.
– Скажи, похож ли план парка на этот чертеж? – спросила Маша. – Наложи эту фигуру на план Кусковского парка, и ты убедишься, что они полностью совпадают.
Виктор покорно наложил кальку на план кусковского парка из путеводителя и убедился, что, за исключением мелких деталей, они совпали. Проявился и пресловутый шестиугольник, «щит Давида». Маша явно торжествовала, но пояснений не давала, по-видимому, ожидая услышать от него самого вопросы. И когда он спросил, почему она придаёт значение этому совпадению, Маша объяснила, что на кальке изображена каббалистическая фигура Сефирот, символ устроения трех миров во Вселенной.
– Ты хочешь сказать, что устроители парка сознательно изобразили эту Сефирот на земле в огромном размере?
– Зачем ты говоришь, что это «я хочу сказать»? – возмутилась Маша. – Ты что же, думаешь, что я подтасовываю факты? Или ты полагаешь, что это случайное совпадение?
– Да не обижайся ты, Маша. Я просто не вижу смысла в таких затеях. К тому же всё это смахивает на историю с пресловутыми «рисунками на плато Наска» в Южной Америке. Ведь и там «рисунки» увидели только с самолёта, сверху. Дело кончится тем, что кто-нибудь из уфологов объявит наши усадебные парки следами «пришельцев».
– Виктор, сравнение с рисунками Наска, признаюсь, мне в голову не пришло. Но, если исключить бредни уфологов о пришельцах, то оно весьма удачное. Тебе, конечно, кажется всё это моими выдумками. Но если бы ты знал, что это обычный приём архитекторов, то воспринял бы сказанное мною гораздо спокойнее.
– Что значит «обычный приём»?
– Понимаешь, архитекторы всех времен «воплощали» на местности символы, а значит, и свои религиозные представления. Простейший пример – древние лабиринты. Они распространены повсеместно. Кстати, в XVIII веке лабиринты вновь стали одним из излюбленных элементов регулярных парков. Точно так же, как египетские пирамиды, сфинксы и обелиски, как античные статуи, триумфальные арки, романтичные гроты и эрмитажи. Для нас Эрмитаж – это музей в Ленинграде, а для «посвященных», которые знали французский язык лучше русского, это слово означает «приют отшельника». Все подобные строения тоже символы. Мы смотрим на них только как на элементы декора, но ведь для их создателей они были наполнены религиозным содержанием. Вопрос в том, что означают эти символы? Зная значение символов-слов, можно прочесть написанный на земле текст.
– И ты знаешь их значение?
– Наизусть, конечно, не знаю. Но существует много книг, где расшифровывается символика атрибутов, чисел и разного рода эмблем. Каждый, если заинтересуется, может узнать их значение. Хотя, на мой взгляд, гораздо интереснее выяснить назначение таких архитектурных фокусов. Ученые специалисты полагают, что назначение их в том, чтобы, как и в любом храме, совершать магические ритуалы, служить своему божеству.
– Маша, а в Сурминове парк тоже разбит по такому плану?
– Не знаю. Я этим еще специально не занималась, – ответила она и неожиданно спросила, когда у него отпуск.
Виктор ответил, что в конце августа.
– Прекрасно. Тогда у меня к тебе вторая просьба. Ты не хочешь поехать в Ферапонтов монастырь?
– Я не успел захотеть.
– Ну, захоти, пожалуйста. Я там пятнадцать лет не была. Помнишь, я туда пыталась экскурсоводом устроиться? Тогда там музея еще не было. Свози меня туда, Витенька, очень тебя прошу. Заодно я смогу и в Ярославле одно поручение выполнить.
– Что значит «свози»? У меня ведь, как ты знаешь, нет машины.
– Я уже всё продумала. Машина есть у твоего приятеля. Забыла, как его зовут.
– Владимир.
– Водить ты умеешь. Машину попросишь у него. И мы поедем. Вообще-то говоря, мы с Лизой вместе собирались ехать, но на поезде мне не хочется – достать билеты одно чего стоит. Потом, я не выношу гостиниц, а так мы можем сами по себе быть. Возьмем палатки… Костерок вечером…
– Я вижу, ты размечталась. Не обещаю, но попробую. Ты мне вот что скажи, – какое тебе дело до этих масонов?
– До них мне дела нет. Но меня интересует Мусин-Пушкин.
– Почему?
– Потому что он почти мой личный враг.
– Позволь, но он ведь умер уже давно. Что он тебе сделал?
– Мне он ничего не сделал. Но в 1800 году он издал пресловутое «Слово о полку Игореве».
– Князь Игорь тоже твой личный враг?
– Нет. Дело не в князе, а в «Ироической песне» о нём. Я думаю, что это подделка.
– Час от часу не легче. Оставим в стороне вопрос о подделке. Насколько мне известно, кроме сумасшедшего Каченовского, никто не сомневался в подлинности «Слова». Пушкин, Карамзин, Калайдович – да все серьезные ученые… И нынешние корифеи – Рыбаков, Лихачев… Рыбаков даже автора нашел, какого-то боярина, Петра Болеславовича.
– Спасибо за Каченовского. Он наш дальний предок по боковой линии.
– Новости. Ты – Серёгина по отцу. Дед у тебя Коробьин.
– Дед – Коробьин, а бабушка по линии матери – троюродная правнучка Михаила Трофимовича Каченовского, которого ты обозвал сумасшедшим.
– Так в тебе что, чувство кровной мести заговорило?
– Нет, я пока с ума не сошла. Или ты полагаешь, что дурная наследственность могла передаться через пять поколений? Но по наследству передалась мне одна его рукопись. Сейчас я тебе её покажу.
Маша пошла к секретеру, открыла крышку и стала рыться на полке, плотно набитой старыми альбомами, папками, связками писем – всем тем, что она называла «семейным архивом». Наконец, вытащила небольшую тетрадь в красном кожаном переплете и протянула её Виктору Николаевичу.
– Вот, возьми. Может, прочтешь на досуге. Только об одном тебя прошу, – не потеряй и никому не показывай. Всё. Мы обо всем договорились. Я позвоню тебе в следующую субботу.
Утром во вторник Мария Михайловна, как всегда, ехала в Усадьбу. Елизавета Алексеевна по дороге рассказала ей о художниках-оформителях, о плане выставки и так, между прочим, упомянула о приезде своего давнишнего знакомого, Виктора Николаевича Скребницкого. Маша не сочла возможным скрывать от Лизы свое родство с ним и свою причастность к его воскресному визиту. Об одном просила Лизу, никому не говорить, что он её родственник. Обе они поахали насчет совпадений, которые в жизни случаются так часто, а в романах им никогда не верят и обвиняют авторов в том, что они нужны им для развития сюжета. Взять, хотя бы для примера, роман Пастернака «Доктор Живаго». Там многое построено на случайных совпадениях и неизвестных людям связях. Многие этот роман критикуют именно за это.
– Маша, раз уж о родстве речь зашла, то объясните мне вот что. Виктор Николаевич – Скребницкий. Он что же, родственник пианистки Антонины Скребницкой? – спросила Елизавета Алексеевна.
– Да. Это его бывшая жена, мать Елены.
– Какой Елены?
– Той самой, что в пятницу концерт у нас давала. С Антониной он разошелся, когда Леночке было 5 лет. Она всё больше у бабушки жила, матери Виктора. Впрочем, лучше он вам как-нибудь сам расскажет. Мне неудобно о его личных делах говорить.
Они медленно шли по липовой аллее к Конному двору. За ними увязался пёс Федя и верная Кассандра. Федя постоянно гонял усадебную кошку Машку, но Кассандру побаивался. Она при первом же знакомстве зашипела на него и так ловко надавала по морде лапами, что он к ней близко не подходил. Вот и сейчас он бежит где-то сбоку – хвост баранкой, к земле принюхивается, у деревьев лапу поднимает. А Кассандра эдакой «принцессой» выступает впереди по дорожке. «Принцессой», а точнее, «принцызой» назвала её одна смотрительница. Так к ней эта кличка и пристала. Бежит, хвост трубой, иногда обернется, сядет и поджидает, и щурит на солнце зеленые глаза. Всей компанией они подошли к Конному двору. Действительно, здесь сделали «косметический» ремонт – побелили снаружи, вставили стекла в окна, стены обили деревом, положили паркет. Внутри они застали двух бородачей-художников и Ариадну Ивановну. Должны были сегодня завезти стекло для витрин. Ариадна пояснила Лизе и Маше, что художники чрезвычайно талантливо «решили пространство» – всё будет затянуто черным шелком: и потолки, и стены, и даже окна. А в нём – в этом «новом пространстве» – будут стоять вертикальные витрины из стекла, и в них будет стоять фарфор. Снаружи на каждый «объект» будет направлен луч от яркой лампы, как прожектор. Мария Михайловна слушала рассеянно и с тоской смотрела в еще не закрытые черным шелком окна. В каждом из них открывались разные уголки парка: аллеи, далекие беседки, статуи. Она не понимала, какая нужда была в том, чтобы это великолепие закрыть черным шелком, но решила не вмешиваться и только спросила:
– А как с охраной? Сигнализацию провели?
– Директор сказал, что всё будет, – заверила Ариадна. – С этим действительно осложнения. Милиция не берется охранять без сигнализации. Они, конечно, правы. Из их помещения Конный двор даже не проглядывается. Да и далеко. Но я думаю, всё как-нибудь образуется.
Через две недели с «пространством» в Конном дворе было покончено. Наши бабушки-смотрительницы боязливо крестились, входя в этот черный склеп, и отказывались сидеть в нем по целым дням. Витрины сияли. Из Дома стали выносить фарфор: две вазочки из Мейсена, вазу в виде корзины для фруктов Венского завода, чайный сервиз Императорского завода в Петербурге, три страфокомиловых яйца работы Фаберже, заодно английский и итальянский фаянс, стекло XVIII века. Словом, ценности немалые. Выставку открывали в середине июля.
Из Москвы приехала элитная публика: представители из Управления, из Ломакинского райисполкома. Директор проговорил речь. Ариадна Ивановна провела показательную экскурсию. В книге отзывов были оставлены первые восторженные отзывы, и выставка стала жить своей жизнью. Экскурсоводы должны были ежедневно нести несусветную чушь насчет «связи фарфора с литературным процессом», обращая внимание посетителей то на вазу или пепельницу, то на соответствующий портрет владельца (или предполагаемого владельца) предмета, заодно рассказывая его биографию. Публика не сразу осваивалась в столь своеобразно «решенном пространстве» и в первый момент даже немного пугалась, попадая в этот «черный ящик» из парка, наполненного солнечным светом и запахом лип. Но скоро глаза людей загорались восторгом и даже каким-то странным возбуждением от вида роскошных ваз, блеска золота на их ободках, от тонкого кружева серебряной скани. Словом, выставка имела успех и давала доход.
А в середине августа и Кухню открыли. Там, вперемежку стояли предметы кухонного быта русской избы и усадебной кухни – глиняные горшки, туесы, деревянные ложки, старинные кофемолки, резные формы для изготовления пасхи, огромный, похожий на самовар, фаянсовый холодильник, который посетители почему-то упорно считали самогонным аппаратом XIX века. Теперь после изысканно литературной экскурсии с цитатами из Белинского, Герцена, Погодина и чтения стихов в гостиных и кабинетах, посетителей вели на Кухню, потом – Парк, потом – Фарфор. В Конном дворе укрепили рамы в окнах. Навесили два замка, и каждый вечер дежурный научный сотрудник старательно опечатывал дверь Конного двора той же медной печатью с дворянским гербом Камыниных. Милиция обещала раз за вечерне-ночную смену делать обход, но на охрану не брала. А сигнализацию так и не провели.
Шло обычное музейно-экскурсионное лето. В конце июля Мария Михайловна подала в Министерство докладную об аварийном состоянии Дома. Гриша развлекал практиканток. Изредка, в выходные дни все ходили за малиной и грибами в Васильевский лес. Кое-кто уехал в отпуск. В конце августа Маша и Лиза тоже ушли в отпуск. Виктор Николаевич взял машину у своего друга, и они отправились на северо-восток, в Вологодчину.