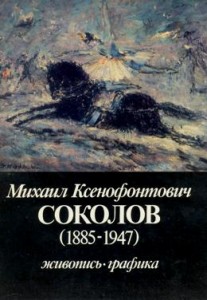ПИСЬМА М.К. СОКОЛОВА ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
1943
Зимой 1943 года художник М.К. Соколов был досрочно освобождён из лагеря по состоянию здоровья, без снятия судимости и с запрещением жить в Москве (где он был прописан). Он с трудом добрался до Ярославля, где жила его 80-летняя мать, старший брат и две младшие сестры. Здесь он сразу же попал в больницу с диагнозом: пеллагра, анемия, В ночь с 9 на 10 апреля был при смерти. В больнице пробыл до ноября 1943 года восемь с половиной месяцев. Больница в Ярославле закрылась на ремонт, и Соколова перевели в другую больницу, для хроников, в село Норское. Но и эту больницу по решению Горздрава должны были закрыть на реконструкцию. Ему грозила выписка в никуда, потому что родственники отказались взять его к себе. Нет пристанища, нет работы, нет даже одежды, а на дворе скоро зима. Попытки московских друзей устроить М.К. Соколова на работу в Загорск или в Ясную Поляну не увенчались успехом. В последний момент С.И. Лукьянов сумел получить справку от Горкома художников Ярославля, необходимую для того, чтобы М.К. Соколов мог устроиться на работу. Его взяли на должность преподавателя в кружке ИЗО в Доме пионеров города Рыбинска.
ИЗ БОЛЬНИЦЫ
1943, 25 апреля. Больница в Ярославле.
<…> Наконец-то после двухлетнего перерыва, получил вести от Вас. Это большая, большая радость, тем более в самые тяжелые для меня минуты — я лежу в больнице, болен, и болен безнадежно (в ночь с 9-го на 10-е апреля никто не думал, что доживу до утра). Полное обескровление и истощение приковало меня к постели, лежу целыми днями, как пласт. Вот пишу Вам также лёжа. Милая, дорогая Надежда, мужество покинуло меня. Умереть сейчас, не выходя из больницы, для меня величайшее благо, так как впереди стоит страшная ночь и смерть под забором. Это невольно страшит. А если бы Вы знали, как хочется жить, жить и работать, работать!
1943, 1 мая. Больница в Ярославле.
Да, друг мой дорогой, жизнь надо мной подшутила страшную шутку. Едва ли я встану к жизни, а если каким-то чудом поправлюсь, впереди стоит еще худшее. Здесь остаться не могу, и значит, я без угла, без средств… Пять лет, несмотря на трудности жизни «там», я держался, и могу с гордостью сказать, те условия, в которых я находился [и которые] так действуют на других, на мне не оставили следа. Я сохранил себя вполне, каким Вы знали меня, и [эти условия] только утончили мои чувства ко всему. Если я не работал практически, то мысленно проделал колоссальную работу: я знаю, что нужно и как. И вот меня гнетет мысль, что практически я лишен возможности осуществить [продуманное]. Ах! если бы Вы знали, как хочется работать! 24 часа в сутки мне было бы мало, а я лежу, как труп, без надежды подняться и взяться за кисть. Если бы хоть один год быть здоровым и работать, я завершил бы, наверстал бы ещё и мог бы сказать: «с миром мя отпущаеши».
То, что мной оставлено, это только путь к совершенству. Вспомните японского художника XVIII века Хокет. Он сказал, что в 100 лет будет совершенным, — и не дожил до этого лишь года. Я мог бы сказать, пожалуй, ранее, чем в 100 лет, но, знать, не судьба. Представляете, как это ни странно, я чувствую себя совсем юным и напряженным творчески более чем когда-либо. Пишу Вам лёжа и страшно устал, — простите. <…> P.S. Хорошо было бы, если бы мои грустные прогнозы оказались ошибочными, и я опять буду здоров и смогу опять работать. Смогу завершить свою земную миссию художника.
1943, 13 сентября. Село Норское. Больница для хроников
<…> Сейчас я с трудом делаю несколько метров: ноги отказываются служить, и одышка. Душевное состояние полная «смятенность чувств». Все надежды улетучились, как дым. За окном сыро и холодно: «серое небо, серая вода и грустная, грустная Волга, и я не знаю, мне идти куда». Стою на распутье, где рыцарю предстоял, хотя и тяжелый, но выбор, куда идти, а у меня нет выбора, нет пути. В настоящий момент своей жизни я бы мог взять эпиграфом слова: «Кому повем печаль мою?» О. как она велика, мой дорогой друг…
Я хорошо помню, когда смерть стояла на пороге и жизнь вся была на острие ножа. У меня было полное сознание, и удивительная ясность мысли, хотя, может быть, это не совсем обычно. В эти минуты прошла вся жизнь моя с такими подробностями прожитого и чёткостью, что я сам был поражен. Прошло и то, что, казалось, было забыто навсегда. <…> Вы знаете, смерть сама по себе совершенно не страшна, страшно лишь само её преддверие, и я, может быть, еще не раз пожалею, что, пройдя и преддверие, я «не на той стороне». Я ведь опять стою в преддверии. Одного бы я хотел, чтобы в этот момент рядом был близкий человек, чью руку я мог бы взять в свою и сказать своё последнее прости, но я и этой надежды лишён.
1943, 27 сентября. Норское.
… От Вл. Серг. [Городецкого] не имею известий с 26 августа. На все мои письма и телеграммы молчание, а на него моя последняя надежда. Как его хлопоты о моем деле? Перепоручил ли он их кому, я не знаю. Последняя надежда рухнула. <…> Если бы Вы знали, как мне трудно, как тяжело всё переживаю, и Вы, может быть, не поверите я жалею, что я не «там», где был. Там было труднее, но была определенность, а сейчас всё ожидание, напряженность и полная неясность, что будет завтра. Это мучительно, невыносимо.
1943, 3 октября. Норское. <…>
Нельзя ли что-нибудь продать из моих вещей: ведь должно же быть что-нибудь?! Неужели они никуда не годятся и ничего не стоят? Прошу Вас, сделайте в этом направлении всё возможное. …О, как всё трудно. От этих мыслей комок подступает к горлу <…>.
1943, 24 октября. Норское.
<…> Всё же я оказываюсь живуч и, несмотря ни на что, чувствую, что с каждым днем крепну. Если бы моральное состояние не было таким тяжелым, я, быть может, давно бы был на ногах, «в форме», как теперь говорят. <…> После долгого отсутствия, я никого не видел (кроме мамы, и то одни сутки). Остальные родственники мой приезд восприняли, как великое неудобство, и не оказали решительно никакой помощи. <…> Мной за это время сделано много рисунков если бы была оказия, прислал бы их Вам. <…> Есть как будто довольно интересные и доставили бы Вам маленькую радость. Надеюсь всё же, что при первой возможности вышлю <…>.
1943, 27 октября. СРОЧНАЯ ТЕЛЕГРАММА. Н.В.Розановой.
ВЫПИСАЛИ. В ПОЛНОМ ОТЧАЯНИИ. УПРОСИЛ ВРЕМЕННО ОСТАВИТЬ. СПЕШНО ВЫСЫЛАЙТЕ ДОКУМЕНТЫ ЕХАТЬ РАБОТАТЬ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ ИЛИ ВСЁ ПРОПАЛО. ПЕРЕДАЙТЕ ТОЛСТОЙ НЕМЕДЛЕННО ТЕЛЕГРАФИРОВАТЬ ОТВЕТ = МИХАИЛ.
ПИСЬМО В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ.
<…> Я в полном отчаянии меня выписали, но я упросил временно еще оставить, ссылаясь на Ваше письмо, где Вы пишете о работе над Толстым в Ясной Поляне. …Но это вопрос считанных дней. …От этого зависит моя жизнь в буквальном смысле этого слова, так как выйти мне отсюда некуда нет никакого угла, а ведь сейчас на улице уже мороз. <…> Поймите меня поэтому, что я чувствую, как всё переживаю. Все силы, всю свою волю напрягаю, чтобы не сдать, но это плохо удается.
Как какой-то злой Рок бьёт и бьет меня. <…> Ах, как хочется иметь какой-нибудь угол, чтобы не чувствовать того отчаяния, что можешь остаться на улице, как бездомная собака. Поймите, поймите, как всё это тяжело. <…> Может, общими усилиями всё же выручите меня. Скорей, только скорей, медлить нельзя ни одной минуты. Жду, жду.
1943, 10 ноября. Норское.
Сестра получила 500 руб. [вторая половина суммы за рисунок «Анна Каренина», купленный Музеем Л.Толстого в Москве – прим. Н.В.Розановой]. <…> Мое положение остается то же. Реальной помощи до сих пор нет, и как будто не предвидится. На мой призыв никто не откликается, и голос мой остается «гласом вопиющего в пустыне». От всего этого тяжело на душе. <…> Напишите в письме, как обстоят дела с ходатайством Горкома художников и цеха РАБИСа (работников искусств).
1943, 20 ноября, Норское.
<…> Последние дни у меня обострение сильнее, чем когда-либо. Больница, в которой я лежу всего на 35 человек. Горздрав производит её реконструкцию. В больнице оставляют лишь тех, кто нуждается в посторонней помощи, то есть не может ходить (паралитики), и я подлежу выписке теперь же. Сколько дней мне еще предстоит быть здесь, не знаю, но я упросил пока оставить меня. Вот видите, и это роковой день настал, а за окном холод и дождь. … Присланных Вами денег, Вы сами хорошо знаете, надолго ли хватит? <…> Я бьюсь, как рыба об лёд. Каждую минуту в ожидании, и каждый день кончается большой горечью и болью… Будущее меня страшит, так как оно представляется мне безотрадным и уродливым до последней степени, и я не раз сожалел, что уже не за гранью, не там, «где нет ни печали, ни воздыхания». Ведь, по сути, я уже был в черте небытия, трудное было пережито, оставалось лишь мгновение, уводящее навсегда и от всего. Теперь же я буду вынужден проходить самый тяжелый путь, более тяжелый, чем был…
ИЗ РЫБИНСКА
|
|
|
1943, 25 ноября Рыбинск
… Спешу написать ─ я в Рыбинске, зачислен на работу временно в Дом пионеров. Что будет дальше, ─ не знаю; не знаю ещё и какая работа. Встретили как будто хорошие люди. Живу пока у сторожихи при Краеведческом музее. Сплю на голых досках, ─ укрываюсь пальто, ничего нет ─ ни одежды, ни подушки. Получать буду хлеба 500 грамм ─ остальное неизвестно, жалованье так же [неизвестно]. Все деньги, что были, израсходованы во время переезда.
1943, 29 ноября.
Дня через два переезжаю туда, где мне отвели две комнаты. Одна с печкой 10 кв. мс печкой (я люблю топку печки) это моя спальня и кабинет, другая метров в 18, в два окна это моя мастерская-студия. <…> Рыбинск встретил меня совершенно по-иному, чем Ярославль. Директор Дома пионеров милейший человек, делает для меня всё, чтобы мне было как можно лучше! С питанием также меня прикрепляют к лучшей столовой, где дают завтрак, обед с хлебом, булочкой, сахаром и чашкой кофе, второе мясное. Беда моя сейчас в том, что ноги отказываются слушаться, отекают и деревенеют, и я с трудом преодолеваю небольшие пространства. <…> Одним словом, это первая улыбка жизни за 5 с лишним лет.… Вот с Вами делюсь первой радостью.
После возвращения из лагеря, М.К. Соколов неоднократно писал В.С. Городецкому, но тот на его письма не отвечал. Тогда художник понял, что большая, и лучшая, часть его художественного наследия пропала. Два года М.К. Соколов пытался восстановить свое членство в МОСХе, но безуспешно. Художники Львов, Богородский, Бескин, Алякринский и другие «друзья» из Правления Союза ему в этом отказывали, ссылаясь на то, что он живет не в Москве. В августе 1945 года Соколов был принят в члены Ярославского Отделения Союза художников и только тогда смог получить удостоверение, без которого не мог получать дополнительное питание.
ПИСЬМА М.К. СОКОЛОВА — Н.В. РОЗАНОВОЙ
24 января 1945. Рыбинск. <…> Страдание это моё, а радость всегда была далека от меня. А разве я не хотел её? Но она осталась недосягаемой так было, так есть… Что же все же меня спасло? Что я принял жизнь и благословил не отверг, не проклял. И я отвечу: искусство и воля к жизни, к утверждению в жизни, красота видимого мира здесь я был и остаюсь непреклонен.
24 января 1945. Рыбинск. <…> Относительно Ваших рисунков. Конечно, посылайте без паспарту, я уже сам сделаю, как нужно смотреть. Я не показываю своих работ, не хотел смотреть и у других (учеников), когда работы не оформлены. …Поэтому вещи Ваши я буду смотреть в хорошем оформлении, и просьба Ваша будет выполнена: отзыв-критика о каждой вещи.
Письмо о кинофильме «Большой вальс».
29 июля 1945. Рыбинск. Пишу Вам, находясь весь под очарованием и обаянием виденного и слышанного (музыки). Нет, нет, Вы, конечно, не догадываетесь, о чем я говорю. Я не забыл Ваших слов в письме ещё «туда» [в лагерь], до войны. Делал попытки ускорить, увидеть, но всё напрасно, и только сегодня увидел и услышал, всего 10-15 минут назад. Ещё не догадываетесь? Я говорю о «Большом вальсе» Штрауса. Я не буду много говорить. Если начать говорить, то надо написать страницы ─ тут столько тем! Сейчас скажу только о главных персонажах.
Первенство безоговорочно отдаю актрисе, играющей невесту-жену Штрауса. Что за лицо! Вся душа на нём, со всеми переживаниями ─ до малейших нюансов ─ и полно духовной красоты. Я обалдел и пережил с ней всё, что чувствовала она, и у меня были слёзы внутри и дрожали губы. Её соперница певица ─ играет замечательно. С прекрасной колоратурой, красива физически, и были моменты перехода и в духовную красоту. Но всё же её лицо ─ она хищница не только на сцене, но и в жизни, это бесспорно. Артист Штраус ─ при появлении, в первое мгновение показался недостаточно «интересным», не вполне. Но вскоре же всё это сглаживается, и уже до конца играет прекрасно, с большой экспрессией и тактом. Музыка звучит полновесно и покоряюще. А сцена в лесу ─ когда они спят и во сне трутся лицами! А встреча со стадом овец? Какая это чудесная пастораль!
Пишу Вам в перерыве между сеансами ─ был на первом и иду опять на последний. Второй билет уже в кармане, ─ обеспечил себя ─ и также сделал заказ на завтра. Вы не находите, что делаю глупости? Пусть. Был чудаком, околею чудаком. Это на роду написано, и я давно о том знаю. Я сейчас позабыл о всех неприятностях жизни «низкой». Не хочу ни о чем думать. Я соприкоснулся с «высшим»: «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». Какой же мудрый Пушкин, не умный, а мудрый. Это ведь не одно и то же! И вот я сейчас «возвышен» (пусть обманут), и мне всё нипочем. Душа поёт, поёт и на сердце больно и сладостно, «радость-страдание» (по Блоку). И я хочу поделиться с Вами и этой болью, и этой радостью… И разве нельзя многое простить жизни и даже её ужасы (стоит только вспомнить о войне, что она принесла), если существует Красота? ─ и можно, и должно. И мои «осанна» жизни оправданы Красотой искусства.
Я сейчас радуюсь, что через каких-нибудь 2-3 часа опять увижу эту чудесную невесту-жену Штрауса. Слово «интересна» неприемлемо здесь ─ вульгарно и грубо. [Увижу] этот страдающий рот, эти глаза ─ всю хрупкость фигуры, полную благородства и какого-то невыразимого изящества. Увижу Вену с её огнями, эти костюмы (”объядение” для художника) и эту беснующуюся, веселящуюся толпу. Вся Вена танцует!»
|
|
31 августа 1945. Рыбинск. <…> Вы меня увидите воочию после 7 лет! Какими длинными кажутся мне эти 7 лет, какие пути прошел я. По-новому открылся мир мне, с его величием матери-Природы, с шумом, как прибой волн, тайги с целым миром живых существ от маленького зверька, полосатого бурундучка, до унылой кукушки с её кукованием. …И я, житель большого города, сын тротуаров и мостовых из асфальта, принял этот мир в себя и возлюбил его.
А небо? Какое видел небо! Торжественное, как музыка Баха, и… в этом величии видел человека этого царя природы в жалком виде последнего унижения, без имени, без близких и с каким сердцем, с какими мыслями!! И я был один из них. …Ужели это было? И я шагал со своим мешком за плечами, сгибаясь под его тяжестью. Разве это не путь Голгофский? Не верится, Не верится. Ведь я умирал, даже умер и вот опять в жизни, и благословляю её, говорю ей: «Осанна!».
«Могущий да вместит» — и я вместил. В этом моя гордость, моя высота…
20 сентября 1945 года Н.В. Розанова приехала в Рыбинск. Они увиделись впервые после 7 лет разлуки.
Письмо, из которого, как он пишет, можно понять,
«КАКУЮ ВЕРУ Я ИСПОВЕДУЮ КАК ХУДОЖНИК,
КАКИЕ КОРНИ ЛЕЖАТ В МОЕМ ТВОРЧЕСТВЕ».
1945, Ночь с 1 на 2 сентября. Рыбинск. <…> Хочется рассеять Ваше «недоумение» — это тема о том, почему я, обладая большим умением, всё же обхожу большие темы, — делаете поправку и говорите «затрагиваете их, но делаете, не выстрадав».
… Вы в моем творчестве обошли главное, не увидели его, и я воспринялся Вами как эстет, без души, без чувства взволнованности. Это неверно и сто раз неверно, и для того, чтобы Вы убедились в том, возьмите рисунок, что я сейчас послал для Орлова. Рисунок старый, 1923-1925 годов, из цикла «Страстей». Похож он на эстетский? Разве там есть равнодушие?!! И ведь таких рисунков у меня сотни. Дальше. Разве цикл диккенсовский и цикл [Французской] Революции — не полярны в своей сути, хотя и деланы одним приемом (формально), одним материалом? И цикл Тайги— разве не различен от этих обоих?
И потом, возьмите моего Робеспьера, — разве он не больше действительного (то есть, каким был в жизни Робеспьер с внешней стороны)? Если взять моего Робеспьера, разве мой не окажется значительнее и более отвечающим нашему представлению о нём, каким мы воспринимаем его по историческим материалам в связи с его деятельностью, с его поступками — его неумолимостью, фанатизмом и театральностью. Вспомните об устройстве торжеств в честь Верховного Существа, где он фигурировал в голубом фраке (?!).
А мои пейзажи «Уходящей Москвы»? Разве это списано с натуры, а не больше? А ряд Naturemort’ов с кетой, с шляпой и перчатками — разве они похожи друг на друга по своему выражению? Они всегда разны, — но для того надо уметь это увидеть, и это многие увидели, а Вы увидели во всём одно и то же.
<…> Вас удивила моя фраза, моё желание писать натуру в каком-нибудь интересном, живописном костюме, а не в какой-то чуйке, сделанной у портного разглаженной утюгом (бррр!!!). И разве величайший в мире портретист большой глубины (самый сильный) не наряжал свои персонажи в костюмы совершенно не своей эпохи? Разве это не так? А в своих автопортретах — не изображал себя в самых маскарадных костюмах? Разве это не правда? Почему же Вы не предъявляете ему обвинения, какое предъявляете мне?
А Ваши ссылки на неистового Винцента Ван-Гога? — между прочим, самого любимого мной художника, близкого внутренне, и его письма я рекомендую всем художникам, они должны быть настольной книгой всякого подлинного художника, должны стать его Евангелием. Скажите, разве Вы не знали этого? И потом — у этого изумительного художника, писавшего кровью своего сердца, — к удивлению, совсем нет собственных композиций, значит, нет и собственных образов.
Все его картины, кроме Naturemort’ов и пейзажей, сделаны с рисунков или гравюр других художников: Рембрандта, Делакруа, Домье, Доре. [Свои копии он] делал дотошно верно, не искажая до последних мелочей. Посмотрите рисунок Доре упоминаемой Вами «Прогулки» и в том убедитесь. Например, бабочки, которые совсем незаметны [на рисунке Доре], всё же сделаны им [Ван-Гогом.]
Поверьте, на эту тему я много могу сказать и немало интересного. Образ для меня всегда был решающим, и скажите, разве «Анна Каренина», что сейчас у Вас, которую я прислал, можно назвать Кити? Нет и нет! Можно не согласиться с пониманием его, то есть образа Анны, но Китти мною мыслится иной.
Я думаю, что и этого уже достаточно, чтобы увидеть, какую веру я исповедую как художник, какие корни лежат в моем творчестве.
И еще раз скажу (перефразируя Ваши слова). Моя «Голгофа» совсем не одно и то же, что и «Всадницы». Если найдется папка, так таинственно исчезнувшая, и Вы посмотрите её, то убедитесь, что «довлеет» (Ваше слово), прежде всего, ИДЕЯ. Вы найдете не только «довление», но одержимость идеей. … Вернусь еще к работенад образом.
Примером может служить мой цикл «Шляпы», где повторяется одна и та же композиция, и одни и те же предметы (шляпы и перчатки), а в результате у меня Naturemort’ы: Кромвелевский, Сен-Жюстовский, Флоберовский, Пушкинский и так далее. Что это значит? А то, что Naturemort перестает быть Naturemort’ом, а становится портретом. Вы чувствуете человека, и человека определенного – Кромвеля, Сен-Жюста и так далее. Формально (по содержанию) — это Naturemort’ы, но внутренне, по сути своей, по духовности, – это портрет, и это дано путем выражения чисто живописно-пластического, а не литературного, как у немцев.
[В качестве примера литературщины М.К. Соколов разбирает два Naturemort’а художника М.И. Курилко, «антихудожественные, натуралистически написанные вещи»].
… если бы Вы увидели такой Naturemort в натуре, то есть мёртвую, отрезанную кисть руки, судорожно сжатую, натуралистически написанную, с выписыванием каждой жилки. Что бы Вы почувствовали! Не отвернулись бы с отвращением? И отвечаю за Вас: да, отвернулась бы. У него много работ, и всё в таком же роде. Он верный ученик немцев, самой бездарной нации в изобразительном искусстве. Только в музыке, в литературе, в философии они занимают одно из первых мест. Так вот, на другой работе он изобразил череп, и из глазниц текут слёзы. Ну, скажите, что может быть отвратительней и, добавлю, глупее, тупее такой идеи? И это всё всерьез показывается как работа мысли художника. Гнусь одна.
Я резок — да, но и всегда был беспощаден ко всему фальшивому, к надувательскому и обывательскому, мещанскому. Здесь никакого снисхождения. Вы знаете, что я как художник прошел жизнь и ни разу не пошёл ни на какую приманку, – а они были, были и соблазнители, – и остался с чистой совестью художника и этим не могу не гордиться. …Ведь для меня всегда дорог в работе – дух вещи. Если это Диккенс, то изображаемое воспринималось бы, как Диккенс, хотя бы момента такого во всём Диккенсе и не было, и всё же это был Диккенс, а никто другой, и я это считаю единственным и верным решением. А Вы? Как же Вы говорите, что я легко делаю, легко одинаково, пусть то «Голгофа» или «Наездница»? Почему же тогда еще в 1925 году на выставке в Академии художественных наук, в официальном и академическом органе, меня, – а никого другого, – окрестили экспрессионистом. Это так и осталось до конца. Почему это? (Здесь не нужно понимать экспрессионизм немецкий с Пехштейном, Диксом, Гроссом, а экспрессионизм того же неистового Ван-Гога). Ночь подвигается к утру, а я пишу, пишу и, кажется, не смогу кончить…»
1945, 17-18 сентября, Рыбинск. <…> Послезавтра наступает 19 (то есть 6 сентября ст. стиля) — знаменательный для меня день. В этот день я родился, — в этот день меня нарекли «Михаилом» в честь «Чуда архистратига Михаила в Хонех» — вот и прошел жизнь «чудом» — на потеху здравомыслящим, преуспевающим — дураком.<…> Ну, а жизнь — Вы знаете, какая весёлая. Двадцать лет блужданий, без пристанища для души и сердца. И действительно, прозвище «Летучего голландца», которое дал мне отец моей первой жены, художник Штемберг ещё в 1915 году! — оказалось пророческим. Мысленно прохожу свои пути — какой все же «пожар» во мне был! И никто не заметил! Да, никто!!! Но удивляться тому, не приходится — в жизни всегда так бывает. Актер, играющий Брандта, преуспевает (все прибыли забирает себе в виде славы, положения и т.д.). Брандт же проходит неприемлемый и гибнет. Для «гармонии» что ли такое распределение ролей!? А? …
5 часов утра. Ночь была полна сновидений. Снилось: выставка, я на вернисаже, брожу среди незнакомой публики, — вижу незнакомые картины, рисунки. И чувствую, что на ней я «чужой», лишний — «отыгранный актёр». Не символично ли это? Не «отыгрался» ли я и в жизни? Завтра исполняется 60 лет!? Да, вспоминаю, когда мне было лет 17-18, для меня 40-летний был уже старым человеком, а в 50 лет — старик. И вот я завтра перешагну седьмой десяток, и, оказывается, остался, мальчишкой 17 лет по чувствам, по жажде жизни (познания её), но только эти чувства острее, сильнее — жизнь подбавила различных «специй».
Для многих это «юбилей», а значит, отмечается всячески. Банкеты, поздравления, награды и прочее, и прочее, в зависимости от «фигуры». Ну, а мой юбилей, чем будет отмечен? Будет обычный день, не будет, может, даже случайного письма. Поздравлений не будет. Сожалею о поздравлениях? Нет. Но провести вечер среди близких — поднять свой бокал с «шипучкой» и сказать: «Да здравствует жизнь, черт бы её побрал! — не плохо было бы. Это и проделаю в одиночьи и мысленно приглашу Вас к своему столу, где будет черный хлеб и горячий-горячий чай. Это ведь же не всем дано. Ах, как грустно, как грустно, Надежда!..
4 октября 1945. Рыбинск. <…> Мимо моего окна гоняют овец и коров на бойню — «обреченных». И я всегда болезненно реагирую: сердце сжимается от жалости — идут, блеют и не знают, что их ожидает. Ужасно! …В своих же пустячках я взял их в пейзаж — в «вольной волюшке», хотя и с погонщиком… Овцы без погонщика не могут быть — и в нашей жизни, человечьей, та же история.
ДВА ПИСЬМА ИСКУССТВОВЕДА Н.М. ТАРАБУКИНА
— М.К. СОКОЛОВУ в Рыбинск
20 сентября 1945. <…> Твои каракули на маленьких бумажках, приложенных к последнему письму, совсем не мог разобрать, поэтому что там написано, ― не знаю… Продолжаешь «следить», как курица, и вместо русских письмен посылать какие-то клинописные надписи на языке, может быть, урарту, которого я не знаю. В Москве ожидается большое и интересное событие: привезённая Дрезденская галерея развешивается в здании музея Изобразительных искусств и в скором времени будет открыта. Там и «Спящая Венера» Джорджоне, и «Сикстинская мадонна» Рафаэля, несколько Веронцев и проч. Хоть маленькая отдушина для притупившихся эстетических восприятий! Ну, разумеется, в развеске первую роль (по крайней мере, по его собственным словам) принимает всё тот же вездесущий Абрам Эфрос.
Примечание. Картины Дрезденской галереи привезли в Москву из Германии. Осенью 1945 года часть из них была вывешена в Музее Изобразительных искусств имени Пушкина.
О ПОСЕЩЕНИИ ВЫСТАВКИ КАРТИН ИЗ ДРЕЗДЕНСКОЙ ГАЛЕРЕИ
Конец ноября 1945. Из Москвы в Рыбинск.
Дорогой Михаил! <…> Рисунки твои получил. Очень хороши. Спасибо тебе. Я показываю их приходящим ко мне. Все восхищаются. … На один из твоих вопросов отвечу подробно.
Это относительно «Сикстинской» и прочих. На днях видел. Попасть весьма трудно. Меркуров не пускает. Всё от него зависит. Ну, а я с ним водку не пивал. Я прошёл через его голову, получив пропуск от вышестоящих. Для обозрения выставлено очень немного. Остальное сложено в штабеля. Здание приводится в порядок, но конца ещё не видно.
Каково же впечатление? Очень разноречивые переживания. Прежде всего, меня охватило ощущение, что смотреть всё это уже поздно. Чтобы переживать и восхищаться, надо было это видеть 30 лет тому назад. Думаю, что и я, и ты, ― мы опоздали, не по нашей, в основном, вине. Хотя в какой-то мере и по нашей. Ведь тот же N и прочие ездили и смотрели вовремя [т.е. до революции]. Опаздывание ― это рок!
Затем, войдя в зал и осматривая вещи, которые знаешь наизусть по репродукциям (и не плохим даже по цвету), никак не можешь отделаться от этого, уже сложившегося, впечатления от вещей: хотя их видишь впервые, но в то же время они знакомы во всех деталях. И вот стоишь перед «Саскией с гвоздикой» или перед «Автопортретом с Саскией» ( на коленях и с бокалом в руке) и гонишь от себя мысли, уже ставшие привычными относительно этих вещей. Хочешь видеть их свежими глазами и не можешь. Вот где отрава этих репродукций! Какое счастье было для тех художников и зрителей, которые жили до изобретения фотографии! Для них не была утеряна свежесть подлинника.
Всё выставленное ― хорошо, поскольку это, видимо, лучшее из того, что есть. Но в то же время это и наиболее общеизвестное. После того, как я пробыл в зале три часа, я стал, как бы свыкаться с вещами, и они постепенно начали вытеснять впечатления от репродукций. Глаз стал воспринимать трепет подлинника, вибрацию колорита, то неуловимое и ускользающее, чего не передает репродукция [пропуск] впечатление от цвета (если репродукция хороша), но не от колорита. И вот «Автопортрет с Саскией» хорош. Мягкий, сочный, тяжелый, грубоватый, «демократический» по манере (идущей к сюжету), но хорош! Рядом с ним выставлена московская «Эсфирь», надо полагать, для того, чтобы каждый убедился, что «наша» ― лучше. Так оно и есть ― лучше! Но ведь «Автопортрет» ― 1630-х годов, а «Эсфирь» ― 1660 года!
Хорош «Портрет старика», сделанный в поздней манере. «Саския» и «Ганимед» оставляют равнодушным. Прекрасно «Еврейское кладбище» Рейсдаля и один пейзаж Гоббема [1638 -1709, голландский художник, ученик Рейсдаля]. Две картины Лорена, пожалуй, лучше эрмитажных. Но что «сногсшибательно», так это «Портрет Моретто» Гольбейна. Черное с белым. Но как дано! Как играет, как глубоко, несмотря на графически-ювелирную рисовку всех деталей. Вот тут репродукция оказалась беспомощной, чтобы передать эту «игру» на черном и белом. В другом плане, но блестяще, это черное и белое подано Ван Дейком в одном мужском портрете, близком по манере не к Рубенсу, а Фр. Хальсу, только в очень сдержанной, «благородной» манере без задора и темперамента Хальса.
Веласкес ― не трогает. Три портрета в черной гамме, родственные тому, что мне знакомо по Эрмитажу. Этот Веласкес не интересен, сух, может быть, «неподлинен». Вот «Инфанту» бы в розовом, серебряном! … Тициан ― не волнует. Раз мы знаем «Венеру перед зеркалом», то портреты, которые имеются здесь, не идут ни в какое сравнение. Но «Христос с динарием» прекрасен по цвету и психологическому содержанию. Веронезе представлен большими полотнами. Среди них переливчато «Нахождение Моисея» (жемчужное, серебряное, зеленовато-голубое, красноватое в [иностр.] глубоких градациях, коричневое).
Хороша, нет слов, «Спящая Венера» Джорджоне: она лучше Эрмитажной Юдифи. Вот воплощение какой-то идеальной, неземной гармонии. В ней есть колорит, тишина, покой, безмятежность. Смотришь и видишь чужой, недоступный душе мир. Очаровательны два [пейзажа] Ватто и один Ланкре. Не знаешь, кому отдать предпочтение? На одной высоте! Но они не прибавляют нового к тому, что известно по Эрмитажу.
Очень оригинален «Иоанн Креститель» Греко. Поразительна деформация обнаженного тела. Всё он, благодаря преувеличениям, узловатое и далекое от какой-либо «правильности» в фигуре. А цвет почти монохромный: серо – сизо – коричнево – синяя гамма с «пробелами».
Хороши два маленьких голубых пейзажа Брейгеля. Отличен (неожиданно больших размеров) Вермеер Дельфтский. Несколько фигур почти в натуру и ловко дан желтый (лимонный) цвет на женской кофте, и как-то смело, «по-восточному», расписан ковер, которым прикрыта фигура.
Ну и, наконец, вещь, которая меня подлинно взволновала и доставила эстетическое удовольствие (так редко выпадающее на нашу долю) это большое полотно Тинторетто. [Картина Я.Р. Тинторетто (1518-1594) «Битва Архангела с Сатаной». Холст, масло.3,18 на 2,20 м]. Семь или восемь фигур в натуру, таким образом, можешь представить размеры. Все они в воздухе. «Здорово» (не найду другого выражения) передано парение в воздухе! Но не в этом, разумеется, дело! Колорит!… Это музыка, симфония голубого, зеленоватого, розовато-коричневого, темно-коричневого и серебристого. Всё волнуется, всё кипит, трепещет. А как написано! … Вот живопись! Как музыка! Смотришь и слышишь! И уже неважно, что, для чего, как! Чувствуешь, что во власти художника, что он тобой владеет, что не только созерцаешь, любуешься, наслаждаешься, смакуешь (Ватто), а захвачен волею художника. Как это и бывает при восприятии музыки. Живопись здесь не созерцательное, а волевое искусство. Ведь живописность и музыкальность понятия родственные, а может быть, и тождественные.
Ну, что же сказать о «гвозде»? [Картина С. Рафаэля (1483-1520) «Мадонна с папой Сикстом II и св. Варварой» (в просторечии «Сикстинская мадонна»). Холст, масло. 2,65 на 1,96 ]. Ты видишь, что для неё не осталось и места в моем письме. И это симптоматично. О «ней» нечего сказать. Композиция, выражение лица и прочее ― всё это тебе ведомо по воспроизведениям. А колорита там нет. Есть несколько цветовых пятен, но не колорит. Помнишь, мы отмечали какую-то «ремесленность» в «Мадонне Альба»? Вот и здесь такая же поверхностность. Может быть, она была «записана», «поновлена». Вот тебе отчет. Привет. Твой Николай.
Примечание. Когда летом 1946 года М.К. Соколов приехал в отпуск в Москву, Комитет по делам искусств перестал выдавать пропуска на осмотр Дрезденских картин. Выставка для широкого зрителя была открыта в 1955 году, незадолго до передачи картин ГДР.
ПИСЬМА М.К. СОКОЛОВА ― Н.В. РОЗАНОВОЙ
1945 26 декабря. Рыбинск. …Я говорю о самой тайной боли, что меня угнетает, мучает… Я «неудачник». Это тайное, это моя трагедия. Поэтому ты поймешь мою любовь к некоторым литературным героям: в них я вижу себя, свою отражённость, как в зеркале, пусть они называются другими именами, пусть живут в другие эпохи, пусть ситуация их жизни иная – это не мешает верности видения…»
1945, 30 декабря. Рыбинск. Кстати об искусствоведах. По большей части они всё же большие невежды, не в смысле их знания истории: кто, кого родил: Авраам родил Исаака – Перуджино – Рафаэля — … Леонардо да Винчи и так далее. Это-то они знают отлично ─ начётчики. Но в понимании самой вещи, произведения, только что рождённого, ─ здесь они беспомощны, как дети. Болтают, правда, много (на то и язык привешен), но всё помимо. Я могу наболтать о Левитане, взяв тему [вроде] «Левитан ─ Чайковский в живописи» ─ самую нелепую и банальнейшую. Наболтаю много, и, пожалуй, не хуже заправских болтунов (Эфрос, Бескин и другие). Но ведь цена всей этой болтовне грош в базарный день».
1946. Рыбинск. Мне кажется, я овладел тайной вложить в квадратный вершок, что другие в метрах. И в маленьком это даже сжатее — яснее выражено чувство и дыхание жизни (правды жизни и правды искусства). … Миниатюрами ты называешь мои маленькие вещи, но я их миниатюрами не считаю, так как принцип писания совсем не тот, что обычно у миниатюр, а (вещь) остается тем же, то есть станковой картиной, только маленьких размеров.
Летом 1946 года Соколов приезжал в Москву в отпуск.
1947. М.К. Соколов и Н.В. Розанова зарегистрировали свой брак. Члены Правления МОСХ, наконец, согласились принять его во второй раз. Для Соколова появляется возможность переезда из Рыбинска в Москву. Но к этому времени художник был уже тяжело болен, у него обнаружен рак. Его устраивают в Институт имени Склифосовского.
29 сентября 1947 года, в возрасте 62 лет, М.К. Соколов умер. Похоронили на Пятницком кладбище.
ПОСЛЕ СМЕРТИ
Н.М. Тарабукин (из главы «Последнее свидание», с. 65-69):
«Соколова отпевали в храме на Пятницком кладбище, что возле Ржевского вокзала (ныне Рижский). На похоронах присутствовали его друзья и самые близкие знакомые, любившие его. Небольшая группа проводила его до могилы. Небо было покрыто тучами. Накрапывал дождь. Было по-осеннему холодно.
… Надгробное слово произнёс скульптор Орлов. Поэтесса прочла стихи. Ещё кто-то помянул художника восторженным словом. Н.В. устроила у себя на квартире поминки.
… Соколов был романтик в жизни и в искусстве. Ирония не была его свойством. К людям и к окружающему он относился серьезно. Требования жизни, несовместимые с его понятием о творчестве, Соколов отвергал всегда. И до последнего вздоха не изменил себе.
Пусть эти страницы будут сырым материалом для того, кто напишет монографию, достойную значительного художника. Н. Тарабукин.
Ст. Голицыно, Дом творчества Союза писателей. 1-12 апреля 1948».
МОГИЛА М.К. СОКОЛОВА
на Пятницком кладбище в Москве
В 1956 умерла от инфаркта Надежда Васильевна Розанова. Её тоже похоронили на Пятницком кладбище, рядом с могилой Н.С. Флёровой, тети Е.Д. Танненберг, и недалеко от могилы М.К. Соколова.
В 1958 Е.Д. Танненберг получила ответ из Прокуратуры РСФСР, что приговор 1939 года в отношении художника М.К.Соколова отменен.
ПРОКУРАТУРА СССР
ПРОКУРАТУРА РСФСР
22 VII – 1958 № 9/7-8705-57
Москва, Центр. Москва, Каретный Ряд, Лихов пер.,3, кв. 4
Кузнецкий мост, д. №13 гр. Танненберг Е.Д.
Сообщаю, что по протесту Прокуратуры РСФСР 26 июня 1958 года приговор Мосгорсуда от 22 марта 1939 года и Определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР от 16 апреля 1939 года в отношении Соколова Михаила Ксенофонтовича отменил и дело прекратил.
Прокурор отдела по надзору за следствием в органы госбезопасности
советник юстиции подпись /Пирс/
ВЫСТАВКИ
ПУБЛИКАЦИИ
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
После смерти Н.В. Розановой в 1956 году её архив и часть художественного наследия М.К. Соколова хранились в доме её подруги Е.Д. Танненберг.
После смерти Е.Д. Танненберг в 1985 году рисунки и картины М.К. Соколова и Н.В. Розановой, а также её архив с письмами Соколова и другими материалами, были переданы в Ярославский Художественный музей (ЯХМ).
Второй экземпляр писем Соколова и «Материалов к биографии…» Н.М. Тарабукина Е.Д. Танненберг передала мне при жизни, когда мы с ней готовили выставку рисунков Соколова в моем доме в 1981 году. С тех пор они у меня и хранились. Это позволило мне подготовить к публикации часть писем (43 письма за период с 1941 по 1945 годы).
С помощью писателя Виктора Астафьева, которому я посылала эти письма для прочтения, часть из них удалось напечатать в журнале «Москва» (1989, № 2, стр. 177-194). Вторую часть журнал печатать отказался. На основе очерка Н.М. Тарабукина мною было написано Предисловие к этой публикации, получившей от редактора непонятное, на мой взгляд, название «Кому повеем печаль свою», тогда как я настаивала на понятном любому человеку названии «ПИСЬМА ХУДОЖНИКА М.К. Соколова».
С тех пор прошло 30 лет. ПИСЬМА М.К. Соколова так и не были изданы отдельной книгой. На журнал «Москва» подписывались не только в Москве, но и по всему Союзу. В те времена тираж журнала был большой ― 760 000. И вот я вторично публикую их, на этот раз за период с 1938 по 1947 годы и с множеством репродукций его работ за разные периоды жизни.
Но публикую уже не для широкой публики в многотиражном журнале, а всего лишь в своем Летописце тиражом всего 25 экземпляров.
Книгу «Путешествия за смертью» художник не написал, но мне кажется, что свой замысел он всё же осуществил в своих письмах. В них заключен тот фактический материал, который должен был послужить основой книги. Ван-Гог был «самым любимым его художником, близким внутренне». Его письма Соколов «рекомендовал всем художникам», и считал, что «они должны быть настольной книгой всякого подлинного художника». Не берусь утверждать, что письма Соколова должны быть «настольной книгой», но его письма представляются мне даже более значительными, чем письма Ван-Гога. Возможно, они просто ближе мне по духу и потому вызывают чувство такой глубокой скорби и сострадание такой силы, которую, пожалуй, мне редко приходилось испытывать при чтении чего-либо. Вот почему мне так хотелось, чтобы эти письма имели возможность прочитать и другие люди.