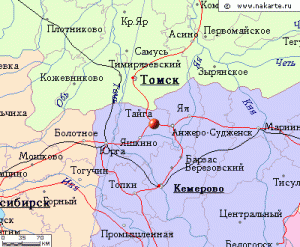ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
1933. Соколов участвует в выставке «Худоники РСФСР за 15 лет» (1917-1933) в разделе «Графика». Его рисунки замечены «правительственным комиссаром выставки» Абрамом Эфросом.
1934 15 февраля. Соколов подписывает договор с издательством Academia на создание иллюстраций к поэме Вольтера «Орлеанская девственница» и надеется на «длительные договора» с этим издательством. 1934 17 марта. Художник принят в члены МОСХ.
1935. Соколов расходится с женой, М.И. Баскаковой. Её новый муж ― В.Н. Якубов.
Из «Материалов к биографии М.Соколова» Н.М. Тарабукина:
«Соколов продолжал жить в Москве в том же бывшем общежитии ПРОЛЕТКУЛЬТА, в небольшой комнатке, в которой в начале 30-х годов поселилась его жена, Марина Ивановна Баскакова, а несколько позднее появилась ещё и собака Эльга, доберман-пинчер. На стенах висели картины в золоченых рамах. Старинные рамы Соколов очень любил, придавал им большое значение в оформлении картины и покупал их в комиссионных магазинах. У стены стояли штабеля с подрамниками, загромождая и без того узкий проход к окну. У окна находился маленький столик, заваленный газетами, бумагами, книгами, вперемешку с которыми валялись куски хлеба, бритвенные принадлежности и маленькое зеркальце, в которое он часто смотрелся.
ЗИМА 1936. ВЫСТАВКА НА КУЗНЕЦКОМ МОСТУ.
На этой выставке роизведения Соколова занимали отдельный зал и были замечены, имели успех. Горком РАБИСа (работников искусств) приглашает Соколова преподавать в Институте по повышению квалификации художников. МОСХ постановил передать мастерскую художника Н.Н. М… [фамилии не знаю] художнику М.К. Соколову.
В письмах к Н.В. Розановой он пишет:
«1 февраля 1936. … В моем бытии наступает перемена к лучшему. Говорю я о моем большом успехе на выставке, открывшейся 30 января во Всекохудожнике. Реальность такова: 1) Правление Всекохудожника постановило (ещё за день до открытия выставки, законтрактовать, что мне даст 1000 рублей в месяц; 2) Приобрести работы с выставки; 3) Заказ к юбилейной выставке. В Институте мое положение так же из лучших ― положение премьера в театре. Правда, это совершенно не значит, что моё мироощущение через то изменилось. Нет. Но то, что теперь я смогу работать по-настоящему, меня стимулирует творчески….»
ТРАВЛЯ ИСКУССТВОВЕДОВ
из «стана врагов» (Абрам Эфрос, Иосиф Бескин и др.)
14 февраля 1936 в газете «Комсомольская правда» напечатана статья под заголовком: «Против формализма и ”левацкого” уродства». Соколова называют «приспешником буржуазного искусства».
17 февраля 1936 года в газете «Советское искусство» влиятельный искусствовед Абрам Маркович Эфрос (1888-1954) опубликовал рецензию под названием «Выставка незамеченных». О Соколове он написал так: «Талантливость Соколова несомненна. Его техничность очень (sic!) незаурядна. …Однако Соколов неощутим (sic!). Почему? Потому что он удручающе нежизнен. ЭТО НЕ ХУДОЖНИК (sic!), это тень художника. … Живой жизни нет, живой темы нет, живого зрения нет, живой руки нет. Поэтому вся талантливость и техничность Соколова идут куда-то к чертовой бабушке (sic!). На Соколова трудно и горько смотреть».
В письмах к Н.В. Розановой Соколов пишет: «Художественная Москва сейчас живёт двумя станами ― моих друзей и моих врагов». Он надеется на то, что произойдет «большой сдвиг от мертвого застоя последних лет», что «диктаторство в области изобразительного искусства Бродских ― кончилось». О своем выступлении на одном из совещаний пишет: «Я говорил последним. Когда поднимался по ступеням к ”месту оратора”, то, по замечанию одного из моих друзей, у меня был вид человека, идущего на эшафот ”к своей неизбежности”». Он сознает, что хоть и ”вышел победителем”, но опасается, ”не послужит ли победа к новым бедам».
13 марта. Утро. 8 часов. … Мой «упадок» не есть реагирование на те нападки в печати (обвинения в формализме и трюкачестве) … Нет, причина другая… Используя общую ситуацию, МОСХ проделывает ряд, действительно, трюкачеств, вопреки законам уголовного кодекса и законам здравого смысла, учинило то, что я опять оказался (и уже без надежды) получить когда-нибудь мастерскую. А вопрос мастерской ― вопрос работать или не работать, то есть «быть или не быть». А теперь я ещё связан договором и должен проделать большую работу. В тех же условиях, в каких я сейчас нахожусь, ― этого сделать я физически не могу. По Институту так же не совсем благополучно. Неблагополучие идёт от похода того же МОСХа на меня, что я не имею права воспитывать художественные кадры как идеологически вредный («формалист, чуждый советской действительности»). Но, конечно, это ничего не значит. И оказать какое-либо влияние на мою творческую работу не может. Здесь ― ни пяди!
25 марта 1936. … Да, позабыл Вам сказать, ― на днях подал заявление об уходе из Института. Против меня ведётся целая кампания ― считают, что недопустимо, чтобы такой формалист (!!), как я, мог руководить и воспитывать художественные кадры. Комитет по делам искусств рассматривает моё заявление как демонстрацию, и очень не доволен. Резолюции на моем заявлении еще нет. Скорее всего, что моей отставки не примут. Верно, предпочитают выгнать, чем освободить по заявлению. … Посмотрим, что будет дальше. Мне так надоела вся эта шумиха, что просто тошнит. Теперь каждый осёл старается лягнуть … Меня это нисколько не обижает ― просто надоел этот ослиный и бездарный вой. Ну, довольно.
В результате этой травли члены Правления МОСХа отменили свое решение о предоставлении мастерской М.К. Соколову. Они заявили, что Соколов «не имеет права воспитывать художественные кадры, как «идеологически вредный формалист, чуждый советской действительности».
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАСТЕРСКОЙ
(по распоряжению И.В. СТАЛИНА)
Март 1938. Художник С.И. Лукьянов (1891-1971) ― сотрудник Музея-мастерской А.С. Голубкиной (муж её сестры), пишет письмо Сталину с просьбой о «предоставлении талантливому художнику Соколову мастерской». МОСХ вторично постановил выделить Соколову мастерскую в новом, специальном «Доме художника» на улице Масловка. Но получение мастерской затягивается.
Август 1938. Художник практически не имеет возможности работать, так как живет в маленькой комнате (9 кв. м). Не имея постоянного заработка, Соколов живет впроголодь, временами на воде и хлебе. С каждым днем его здоровье ухудшается (сердце сдает). Ему 53 года.
ИЗ ПИСЕМ М.К. СОКОЛОВА Н.В. РОЗАНОВОЙ в Ленинград
12 марта 1938. … Прошло больше года… Для меня 1937 год был самым тяжелым в жизни, а начало этого года ещё тяжелее. Боги не хотят быть ко мне милостивыми, но это не жалоба, а лишь констатация факта…
19 марта 1938. … До вас обо мне доходили вести, правда, совершенно неверные. Я должен опровергнуть то, что дошло до вас: 1) Ни к какой выставке я не готовился и не готовлюсь. 2) Никакого заказа не получал, и вообще не предвидится какой-либо оплачиваемой работы, отсюда все качества моего бытия. … В апреле или в начале мая я получаю мастерскую в новом специальном доме (на Масловке). Мастерская очень удобная (форма, освещение, можно работать круглый день, так как окно выходит на север). … Этого события жду не дождусь, так как, получив мастерскую, я могу проверить себя, на что способен, ― намечен ряд работ, и, мне кажется, в работе я найду утешение и успокоение….
5 апреля 1938. … Что касается контрактации, то она кончилась уже 1 января 1937 года, то есть больше года тому назад. И до сих пор в мою кассу не поступало ни копейки. Живу на то, что оставлено на «черный день», и так как их у меня больше всего, то я всегда их имел в виду.
… Что же касается получения мастерской, то я получаю не обычным порядком.
…Этой возможности я жду вот уже четвертый год. Но боюсь, что возможность, когда станет реальностью, ― я не смогу ею воспользоваться. Я имею в виду своё состояние и прогноз будущего моего бытия. Кровотечение явилось результатом артериосклероза, и хорошо, что оно произошло через нос, нашло внешний выход. Если бы это было в мозг, ― то, увы, мне не пришлось бы Вам дать знать о себе. Но теперь можно всегда ждать разных каверз.
Примечания Н.М.
«Живу на то, что оставлено на «черный день» ― см. Н.М. Тарабукин (стр. 43): «…Как ни странно, но Соколов всегда имел некоторую сумму денег про запас. Он распределял её на длительный срок и вот тут проявлял необычайную, казалось бы, несвойственную его характеру, выдержку. Он ухитрялся питаться буквально на несколько копеек в день. Обеды, как правило, были исключены из его обихода. Он покупал хлеб и сахар. Сушил сухари, клал их в стакан, заваривал кипятком и питался этой тюрей. Проходили годы, и надо было удивляться железному организму, который не слабел от этого чудовищного, сверх тюремного питания. Вставал Соколов рано. Среди дня по нескольку часов высиживал на солнцепёке на Никитском бульваре. Летом шел на Москву-реку и загорал до негритянской черноты».
«не обычным порядком» ― см. Н.М. Тарабукин (стр. 51-52): «Художник Лукьянов начал энергичные хлопоты о предоставлении Соколову мастерской. По его инициативе было послано письмо Сталину, в котором указывалось на невыносимые для работы жилищные условия талантливого художника. Просьба была удовлетворена, и Соколов получил мастерскую в «Доме художника» на Масловке.
«мне не пришлось бы Вам дать знать о себе» ― см. Н.М. Тарабукин (стр. 51): «Соколов был близок к смерти».
18 апреля 1938. Вечер.
… В окно глядится мутная луна,
Мой пёс, насторожившись, поднял уши,
Тревога на сердце моя смутна,
Но не она ли вестником печальным служит?
Мой милый друг! Далёкий нежный друг!
Что сердцу своему в ответ скажу я?
Иль, может, чудо совершится вдруг,
И чаша горькая меня минует…
Я посылаю Вам эти строки ― они, мне кажется, в какой-то мере дают представление о моём тревожном состоянии. События последнего времени (моя болезнь и т.д.) очень взвинтили нервы.
9 мая 1938. …Свое состояние могу определить, как смертную тоску. Неужели это конец, и я никогда не уйду от неё… «Каменную длань командора» (то есть смерти) я чувствую, чувствую её пожатие. Чувствую, что избавления не найду. Пишу Вам строчки, говорящие о моем состоянии:
Мой милый друг, скажи откуда
Души смертельная тоска?
Она целует, как Иуда,
И смертной близостью близка…
И сердце бьётся, холодея, ―
О, сердце бедное моё! ―
Она одна здесь всем владеет,
Здесь царство тёмное её…
28 мая 1938. Вечер. В Москве стоит уже несколько дней тёплая солнечная погода. Я уже выхожу, и за этот короткий приобрел обычный свой летний вид («покоричневел»). Самочувствие немного как будто улучшилось. Успел ещё сделать десятка два рисунков. Моё «наследство» увеличивается. Кто-то в нём будет разбираться! Я всерьез думаю, что только Вам мог бы я доверить своё «потомство», что Вы сумеете в должном виде сохранить и показать, если это будет возможно. Что Вы на это скажете? Согласились ли бы взять на себя эту тяжелую обузу, а?
Сегодня я сделал два больших похода вёрст по 7 и только что вернулся. Вечер очень тёплый, тихий, а по цвету розово-палевый. Я шел по всему бульварному кольцу ― очень хорош вид ― спуск к Трубной площади и подъем к Страстной ― с видом на памятник Пушкина.
17 июня 1938. Утро. Последнее время у меня опять большой упадок бодрости ― волнуюсь и нервничаю беспрерывно, как будто в предчувствии беды.
Примечание. В августе М.К. Соколов две недели прожил на даче у знакомых в деревне Голиково, около села Рай-Семеновское (ж-д ст. Шарапово по Дзержинской ж-д).
9 августа 1938. … Скучно здесь очень. Вчера как событие был пойманный ёж, который потом всю ночь не давал заснуть. Можете судить, насколько интересно окружение. Всякие разговоры об искусстве мне настолько надоели, что при первом же слове об искусстве меня начинает подташнивать. Не удивляйтесь. Искусство ― это искусство, а разговоры об искусстве ― нудная, ненужная болтовня.
29 августа 1938. У меня за это время ничего не произошло. Мастерская всё остается «завтраком», «без пяти минут», и не знаю, когда они кончатся. Правда, сейчас переезжать было бы и невозможно. Жара стоит, какой ещё не бывало ― 36º в тени. Последние дни я совсем не сплю. Страшно утомительно. Никуда не хожу. Не хочется никого видеть.
Вы пишете восторженно о моих работах, ― даже есть такая фраза: «Как я завидую Вам!» Я невольно грустно, грустно улыбаюсь. Можно ли вообще завидовать мне, моей судьбе? Мне кажется, это одна из самых невероятных нелепостей. Это происходит оттого, что Вы берете одну лишь сторону, а именно, ― сделанные вещи, забывая, что их делал человек, живой человек, а не отвлечение, именуемое «художник». Не правда ли? Искусство я несу как тяжёлую, неумолимую кару. А за чьи грехи, ― не знаю. Если бы знал, может, было бы легче. Не забудьте же об этом, друг мой. ― Если бы Вам дать эти «дары», Вы скоро бы попросили взять их обратно.
4 сентября 1938. …Как трудно иногда понимаются очень и очень простые вещи чуткими и умными людьми. Вот Вы, говоря об издательствах и прочих «возможностях», не понимаете самого главного, что именно никаких возможностей «нет» и не потому, что не хочу я, а потому и только потому, что я ничего сделать, за что бы платили, не сумею, а так, как сделаю я, не нужно. Вот пример. Сейчас в Толстовском музее вокруг моей «Анны Карениной» идет дискуссия, и каков будет исход её, трудно предвидеть. Такие лица, как бывший секретарь Толстого, Гусев, прямо заявил, что это сплошное декадентство (!?), что это непонятно, а настоящее искусство понятно всем и т.д. А кому и нравится (например, директору музея и др.), но они боятся, нет ли тут «формализма»? Можете судить, если вещь, за которой охотились два года, которая была опубликована, что поднимает её ценность, и где есть подпись, что это «лев, а не собака», ― и то не может пройти. Что же тогда остается, если я буду «делать» заказ. Нет, друг мой, не так виновато моё «не хочу», как моё «не умею». А Вы вот как-то не смогли этой истины усвоить.
Расчет на мастерскую, который делаете Вы, и что это изменит всё к лучшему, тоже не верен. Если мастерская и даст возможность работать (помещение), то зато обрушится тяжестью такого бюджета, который мне не поднять. Ученики-друзья? Увы, ― это ведь вроде мифа ― он существует, но в «реальном бытии» места не имеет. Печально это, ― но я не могу верить в то, чего нет. Видите, какая получается весёлая картинка.
Примечание. По поводу получения мастерской Н.М. Тарабукин пишет (стр. 52): «Исконная мечта сбылась. Но рок сулил другое. Соколов сказал какую-то неосторожную фразу в присутствии своего бывшего ученика и вскоре был арестован, осужден на 7 лет и сослан в Сибирь».
В письме Н.В. Розановой от 15 сентября 1938 года бывшая жена Соколова, М.И. Баскакова, писала: «Моя милая Надя, здравствуйте! … Решила пожаловаться на Михаила. Он заявил, что умрет голодной смертью, ибо заниматься халтурой он не намерен, и конец ему один.
16 сентября 1938. … Я описал картину реального своего положения с очень печальными выводами и итогом. Вы мне говорите о других (писателях, философах и т.д.), что они имеют другую работу, чтобы «питать свое творчество» (Ваше образное выражение). Значит, и я должен найти эту «другую работу» (основная Ваша мысль). Но мое письмо, на которое Вы отвечали, и заключает в себе ответ на это, а именно, что никакой другой работы для меня нет. В этом-то и заключается вся трудность положения. Правда, есть вакансии рассыльных, сторожей и тому подобные, но я думаю, что если бы я предложил свои услуги в таковые, то, наверное, с моим послужным списком на такую работу меня бы не приняли. А потом, ― едва ли заработок, получаемый от такой работы, может «питать мое творчество».
19 сентября 1938. … Относительно же моей «нелюбви к миру» не буду отрекаться, ― действительно, любви особой не питаю, но ведь на это имеется очень и очень много причин… Настоящий же момент для меня особенно трудный. Накал очень большой, силы уже не те….
Сегодня у меня «значимый день» ― день рождения и именин (он у меня один), и как-то особенно терпко-грустно. День оказался на удивление (в отличие от предыдущих холодных, дождливых) мягким и ласковым. Я немного побродил по своему бульвару, посидел, а потом не выдержал, «защемило» ― ушел домой и, уткнувшись в подушку, пролежал часа два-три. Казалось, ненужными и прожитые 53 года, и сам никому не нужен ― для сознания, как видим, итог не из весёлых.
27 сентября 1938. … Предстоит очень тяжёлая работа по разборке и перевозке вещей в мастерскую. …Реальность переезда будет, наверное, между 4-8 числами октября….
Сейчас в Москве стоит изумительно хорошая осенняя погода. Целый день бродят голубые дымки. Лучшее время для живописца, но я, увы, опять таки ничем из этого богатства не воспользуюсь. Сегодня ходил по переулкам Екатерининского парка ― там есть их несколько (со старыми?) деревьями ― замечательные по красоте. Дома с развалившейся штукатуркой, ― а в окне сидит черный кот. Даже Гофманом попахивает, и в то же время это Москва. По вечерам читаю письма Ван Гога. Веду молчаливый разговор с живым мертвецом, и вот Вам как результат строки:
Скажите мне, когда ж конец настанет,
Невзгодам всем, всем горестям моим?
Иль с грустью должен я признать заранее
Удел Ван-Гоговский ― своим!
12 октября 1938. … Завтра у меня знаменательный и трудный день ― переезд, вернее, перевоз вещей в мастерскую. … Совершенно не представляю, как пойдет жизнь с этой переменой. Но знаю, что трудность (материальная, например) увеличится. Все попытки что-либо достать потерпели поражение.
14 октября 1938. Утро. Вчера у меня был, действительно, тяжелый день. Переезд совершился. Теперь придется приводить в порядок ― разборка и пр., и пр. Оказалось, что половина работ, бывших на чердаке, подлежит «ремонту» на три четверти, то есть придётся почти всё вновь написать. Но это ещё труднее, так как, когда пишешь новое, то бываешь увлечен, а когда восстанавливаешь, то и получается не то, ― и никакой радости, кроме досады, что приходится это делать. Многие вещи погибли окончательно из-за анилина и киновари (другой киновари, не анилиновой, не имел и не мог достать). Она просочилась всюду, и я без отвращения не могу смотреть, как самые лучшие места в живописном отношении (розовые) стали самыми ужасными, то есть такими, что даже в работах у других меня раздражали (тошнило). Как видите, переезд, кроме огорченья, ничего не принес. Приступить к работе едва ли я смогу раньше ноября. Весь октябрь уйдет на «организационные» моменты. Устал убийственно.
13 октября 1938. Соколов перевозит на Масловку почти все свои работы.
26 октября 1938 (то есть через 2 недели) М.К. Соколов арестован.
Как пишет Н.М. Тарабукин, поводом к аресту послужил донос его бывшего ученика А. П-на, в присутствии которого Михаил Ксенофонтович сказал какую-то неосторожную фразу». Кто это был, неизвестно. Арестованный художник был тотчас исключен из МОСХА.
ПИСЬМО М.И. БАСКАКОВОЙ из Москвы ― Н.В. РОЗАНОВОЙ в Ленинград
28 октября 1938. Милая Надя, у М.[Михаила] дела сложились очень скверно, хуже трудно себе представить. Хорошо, если бы Вы приехали на праздники. Больше мне писать трудно. М. [Марина]
ПИСЬМО М.И. БАСКАКОВОЙ к Н.В. РОЗАНОВОЙ
2 ноября 1938. … Вы не ошиблись. Он лишён возможности писать Вам. И Ваше последнее письмо его уже не застало, так как это случилось 26-го, часов в 5 утра………. Встает вопрос о его работах в мастерской, ― мастерскую, надо полагать, получит более «достойный»…
Примечание. 2 января 1939. Вскрыта ранее опечатанная мастерская художника. По составленной в момент вскрытия Описи в мастерской находилось в то время 125 живописных работ и более 1000 рисунков.
1939
22 марта 1939. ПРИГОВОР Мосгорсуда. М.К. Соколов осужден по статье 58 за «антисоветскую пропаганду» на 7 лет лагерей (с правом переписки). 16 апреля 1939 года по его делу судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР вынесла определение.
Октябрь 1939. Все работы Соколова, бывшие в мастерской, по доверенности, присланной Соколовым из лагеря, взял на хранение инженер В.С. Городецкий (1890-1974).
До прибытия в лагерь на станции Тайга Кемеровской области М.К. Соколов пережил три этапа. Первое время пребывания в лагере М.С. Соколов работал на общих работах (лесоповал), но вскоре его перевели в больничный барак. Из больницы он был переведен в инвалидный барак, так как он был отнесен к инвалидам первой категории, которая давала освобождение от работ. Там он опять начал рисовать, а рисунки посылал в письмах к друзьям. С осени 1939 года переписка с родными (в Ярославле) и друзьями (в Ленинграде и Москве) стала регулярной. Никаких ограничений на переписку и получение посылок не было. К сожалению, не все его рисунки доходили до адресатов.
ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА СМЕРТЬЮ
«У меня задумана книга «Путешествие за смертью» – на фактическом материале. Только условия мешают приступить к осуществлению… Материал богатый во всех отношениях – и в бытовом, и в философском смысле».
М. Соколов. Из письма 1945 года к Н.М. Тарабукину.
ПИСЬМА М.К. СОКОЛОВА ИЗ ЛАГЕРЯ – Н.В. РОЗАНОВОЙ
1939 год
11 (15?) октября 1939. Мой дорогой, дорогой друг! Так много прошло времени от моего последнего письма ― больше года, и так много изменений в моей судьбе, увы, в худшую сторону … Тяжелый год был для меня. Сейчас я нахожусь в больничном бараке ― болен. Изменило сердце. В результате сердечные припадки и сильные отеки ног ― к тому же острое малокровие привело к общему упадку сил. В моем положении это никуда негодно. К тому же не имею необходимых вещей: нет ни теплого пальто, никаких перчаток, теплых носок, крепких ботинок, фуфайки, ― а скоро предстоит сибирская зима. Денег также нет, поэтому ничего не могу купить, а мне при моем состоянии необходимы жиры. Поэтому каждая копейка и какой-нибудь клочок свиного сала представляет большую ценность. Вот Вам общая картина моего положения.
29 октября 1939. Ст. Тайга. … Как печальна судьба моя! Я нашел решение живописных задач, которые смогу осуществить только я, и вдруг катастрофа, и всё должно умереть со мною.
Ноябрь-декабрь 1939. … Вы меня, мой друг милый, утешаете тем, что всё, что в жизни случается, ― оправданно. Простите меня и позвольте мне «без гнева» не согласиться с Вами. Если бы мне иметь Ваше сознание [веру], тяжесть моего существования была бы облегчена. … Вы знаете, что на всё, что я сделал, я смотрю как на черновую лабораторную работу, и мне осталось сделать «два-три шага», чтобы достигнуть цели, то есть два-три года для завершения всего сделанного. Неужели это должно быть оправдано? Неужели я должен оказаться «неудачником», и принять это, как должное. Очень это трудно, друг мой, и едва ли я приду когда-нибудь к этому спасительному сознанию.
… Я в настоящее время нахожусь в больничном бараке… Как больной ― не работаю. [Лагерь], в котором я, находится в30 кмот города Тайги, занят лесосплавом, а также имеет столярную и бондарную мастерские. В одной из них мне, скорее всего, и придется работать. Вот моя участь. Поверьте, что я бодрюсь и делаю всё возможное, чтобы «жить». Общение с друзьями дает мне силы, поэтому пишите чаще и больше. Хотелось бы знать все художественные новости. Узнал, что умер Бродский. Кто же теперь в Академии вместо него? Напишите. Вот я и устал, мой милый друг, даже за письмом.
Примечание. Хотя Соколову не пришлось работать в «бондарной мастерской», однако же в связи с ней невольно вспомнишь, что его отец был бондарем. Так что, по странной случайности, художник Соколов был близок к тому, чтобы вернуться к профессии своего отца.
ПИСЬМА М.К. СОКОЛОВА ИЗ ЛАГЕРЯ – Н.В. РОЗАНОВОЙ
1940 год
14 января 1940. 2 часа дня. …Ваше молчание длилось 36 дней. Срок большой. Здесь же время удлиняется до бесконечности, и мне казалось, что я совершенно забыт, забыт всеми. Моментами доходил до полного отчаяния. Ваше письмо пришло во время. Оно вновь как бы связало меня с жизнью, вызвало много мыслей, много ощущений. Хочется на всё ответить, и, как всегда, не скажешь главного. Да к тому же нужно уложиться не более, чем на четырёх страничках ― экономия бумаги.
[Далее он подробно пишет о художнике Натане Альтмане, о его широко известном портрете Анны Ахматовой, который он считает «мертвой, искусственной вещью»].
… Перехожу теперь к художникам севера, об эвенках. Их творчество интересно так же, как детское творчество, и лежит в одной плоскости. Вспомните детский отдел иллюстраций на Пушкинской выставке (ныне музей). Сколько там занимательных талантливых акварелей и рисунков детей от 8 до 15 лет. Но стоит им перейти «возрастную черту», стать более взрослыми, как они ничего не умеют делать, а если и продолжают делать, то совершенно неинтересные вещи. Найдите мне ребёнка в 5-7 лет не талант? Не найдёте. Все таланты. Найдите талант среди 20-летних. Не найдёте. Так обстоит дело и с северными художниками ― художниками-дикарями. Они ― дети. И стоит им только столкнуться с цивилизацией, они теряют девственность (дикаря ребёнка), становятся взрослыми, то есть совсем не интересными.
…Я не обманываю себя, не хочу обмануть и Вас. Мой удел умереть здесь, и гибель моя неизбежна. И в этом моё отчаяние. Такова, знать, моя судьба. Ваша вера в то, что я ещё буду работать как художник и завершу свой творческий путь ― утешение, но это капля воды умирающему от жажды. Поймите, что Ваша вера зиждется на незнании действительности, в которой я живу.
В настоящий момент, как Вам уже известно, я лежу в больничном бараке и только поэтому могу писать (даже чернилами!). Но смогу ли я это делать в дальнейшем, когда выйду [из больницы в барак], ― не знаю. Причин для этого много… Вставать придётся в 5 ½ утра ― с этого начинается рабочий день и так до 7 часов вечера. Спать неделями, не раздеваясь и не умываясь. Площадь, на которой я помещаюсь и которой «владею», ―половина моей кушетки. Здесь весь ты со всем своим скарбом. Скарб же этот помещается в одном мешке, который и является «подушкой». Я вспомнил Ваш вопрос, могу ли я иметь книги и т.п. Представьте, что если бы у меня были книги, то я должен был бы их положить, как и всё, в один мешок вместе с грязными ботинками, бельем и прочими вещами.
Здесь каждая лишняя вещь обременительна, так как при передвижении (а сколько я их имел за 14 месяцев, ― невероятно) весь груз падает на тебя… Сколько раз я под этим грузом задыхался и падал, падал прямо в грязь, а грязь здесь, о которой Вы не можете иметь никакого представления.
Если бы Вы меня увидели, ― ужаснулись. Настолько я не похож на себя и имею убийственный вид. Счастье мое, что не приходится себя видеть.… Но всё же случайно удавалось видеть. Теперь же приходится видеть себя или в воде, или в отражении простого стекла… Я не помню, говорил Вам или нет, что в моем «прожекте» будущих работ стоял на первом месте автопортрет, ряд автопортретов, и вот всё кончилось ― меня уже «того» не существует… Я «новый» ― не моя тема. Страшно подумать о том, чем я стал! Друг мой дорогой, поймите же, что Вы так далеки от понимания моей действительности! Вот почему я так дорожу всякой вестью «оттуда» ― из жизни. Многие обещали писать, но, увы, пишут немногие (мама, В.С. Городецкий, Марина и Вы), остальные молчат. Если я через 14 месяцев перестал для них существовать, то, что же будет дальше? Я заживо умер в их сердцах. А впереди осталось ещё 6 лет! … Ваше письмо так растревожило, что слёзы падали на строки Вашего письма, и мне не было стыдно плакать, ― как-то легче стало на сердце. …Надежды нет никакой, и вот эта безвыходность, безнадёжность убивает меня, приводит в отчаяние. К тому же мое здоровье очень и очень плохо. Это подтверждает и определение медицинской комиссии, которая причислила меня к первой категории, то есть самой безнадёжной. Вывод делайте сами.
… Как хочется обмануть себя, хоть на минуту, что то, что есть, ― это только сон, кошмарный сон. Я проснусь, и всё будет, как прежде. А я вот 14 с половиной месяцев ни разу не был один… Если бы Вы знали, как это мучительно, как хочется одному, отдохнуть от чужих глаз! Как хочется умереть не под присмотром чужих глаз, а среди друзей, под их взглядом и, пожав им руки, тихо и мирно отойти в иной мир. Но это, увы, не для меня. Я целыми ночами не сплю и прохожу, переживаю всю свою жизнь и должен сказать, ― жизнь для меня была мачехой и мачехой злой и беспощадной. … Я сам вырастил в себе художника, без посторонней помощи, и это стоило мне целой жизни, и вот всё оказалось напрасно. Вся жизнь зачеркнута одним взмахом пера. Мне хочется крикнуть, крикнуть о помощи, но ведь знаю, что всякий мой крик будет «гласом вопиющего в пустыне», и мира нет в моей душе, для примирения нет там места! Поймите же, как тяжело, как трудно идти мне свой путь дальше. … Прощайте, мой друг, до следующей встречи, до следующей беседы. Не забывайте меня…. Получили ли Вы моё последнее письмо, в котором был приложен рисунок?
27 января-3 февраля 1940.… Я всеми силами хочу схватиться за Вашу «веру в мое будущее», но чувствую, что руки опускаются, ― нет у меня веры, обмануться хотя бы на минуту. Ведь Вы не знаете того, что, чтобы выжить такую жизнь, в какой я нахожусь, ― нужно быть таким же откровенно обнажённым в борьбе за жизнь, как бывает при гибели корабля, когда всякий спасает только себя. И если рядом у гибнущего кто-то увидит спасительный обломок, ― он отнимет его и не обратит внимания на то, что тот, у кого он отнял, ― пошел ко дну. Здесь никому нет дела до другого, и, если существует «дружба», то она основана на «интересе». Этика здесь ― самый беспощадный враг. А вы знаете почти всю мою жизнь и знаете мое отношение к вопросам этики. Изменить здесь я ничего не могу и не хочу, ― вот от чего мне во много раз труднее, чем другим. И результат этого налицо. Не о таком конце мечтал я, не о таком конце думал! … Но знаю такова моя судьба, более страшная, чем судьба Ван Гога. Он всё-таки сделал что-то, и это «что-то» осталось и стало вечным. У меня же ничего нет, а то, что есть, ― совсем не то, что я мечтал сделать. И уже приступил к этому «деланию», но мне не дали сделать и одного шага. Вот откуда моя боль, моё отчаяние… Представьте мысленно, хотя на секунду, себя на моем месте, ― и Вы познаете весь ужас моего отчаяния. Вы не впервые мне говорите, что «страдание тоже дар и, может быть, ценнейший». Я не возражаю, что страдание очищает, обогащает, но, поверьте, только не такое, как моё. Моё всё покрывает мраком, ведёт к смерти, а не к жизни. Не браните, не упрекайте меня за слабость…
[2 февраля]. … Наступил сороковой год, ― я чувствую, что ему суждено быть для меня роковым. Встречая его, я был с Вами, думал о Вас, и я бесконечно благодарен за то, что, встречая его, Вы не забыли меня, заброшенного в глухую тайгу, в глубокий снег тайги, в суровые морозы, и наши мысли друг о друге встретились. Как бы мне хотелось свою обезображенную голову положить Вам на колени и выплакать всю боль, всю горечь сердца. Друг мой, не забывайте же меня и сохраните таким, каким знали, а не таким, какой я теперь, ― такого не приемлю и я. Прощайте до завтра. Сейчас меня просят освободить стол, на котором я пишу…
3 февраля. Ещё ночь, мой дорогой друг, а я встал, чтобы поговорить с Вами. У меня «оттаивает» душа, когда я говорю с Вами, ― она у меня ожесточилась до последней степени. В ней нет мира, нет покоя, нет веры, и оттого так тяжело мне…….. Вы пишете, что с унынием и отчаянием надо бороться всеми силами души, не подпускать их к себе. Поверьте, это не только трудно, но это невозможно……
За время пребывания в больнице я сделал десятка четыре-пять рисунков на курительной бумаге, которая продается маленькими пачками в 30 листков. Один из рисунков я послал Вам. Получили ли Вы его, я не знаю. В письме Вы ничего не упоминаете, а для меня это существенно, потому что позволил себе «роскошь» ― порисовать, а в бараке, когда я выйду из больницы, трудно будет написать и письмо. Теперь наступила забота, как их сохранить, так как при первой же оказии, они могут погибнуть. А мне бы не хотелось этого, так как среди них есть довольно интересные по выполнению. Карандаши (детские, в коробке) подарила мне ещё в Моршанске [на пересыльном пункте] племянница одного знакомого московского художника, сама тоже молодая художница. Я видел её всего два дня, она ушла тут же [по этапу]… Если мой [первый] рисунок дошёл, то я попробую пересылать Вам и Вл. Серг. [Городецкому] рисунка по 2-3 в каждом письме. Если они не будут доходить, будет ещё большая обида за то, что Вы их не видели. Ах, как всё трудно, трудно, Надежда! К этому письму прилагаю четыре рисунка кусочков тайги, ― может быть, и дойдут, так как они ведь так безобидны. О получении этого письма и рисунков дайте знать мне телеграммой, чтобы я был спокоен, что письмо дошло.
14 февраля 1940. … Мой приход в барак из больницы, как раз в день получения Вашего письма, заставил задержать ответ… С переходом в барак я приступил и к работе, несмотря на то, что по состоянию здоровья я причислен к 1-й категории, которая освобождает от работы. Пока я находился в больнице, при столярном цехе открылась игрушечная мастерская. Туда нужны образцы игрушек, уже несколько сделал. К Вам у меня большая просьба: вышлите мне ряд журналов и детских книг, где имеются разных животных.
24 февраля 1940. … Вы утешаете меня тем, что мы живем в такое время, для которого характерны неожиданность, случайность, граничащая с «чудом», и что я должен терпеливо ждать своего «случая», дарующего мне свободу, а с нею жизнь. Ах, Надежда, Надежда, если бы у меня была крупица веры, капля надежды! … Я до сих пор не подавал никуда жалобы. Мне кажется, что те, по воле которых я лишен свободы, должны выполнить свой долг и принять меры к моему освобождению. Это дело их совести. Так смотрю я, может быть, немного старомодно и смешно. Меня уж обвиняли в этом. Значит, я таков и есть. Что скажете Вы, друг мой, по поводу этого?… Хотел сделать ряд рисунков для игрушечной мастерской, ― ухватился за это, как за якорь спасения, ― но и здесь меня ждали лишь огорчение и разочарование. Моё знание, моё умение, не то, какое требуется. Нужно голое ремесло, а не искусство. Я всегда имел и ранее много огорчений по той же причине, ― но мимо, мимо этих воспоминаний…
… Я, кажется, уже говорил Вам, что небо здесь по чувству много ближе, чем у нас на севере. Поэтому все живописные симфонии, что разыгрываются на нём, ― всегда отчётливы, их рассматриваешь, как картину на выставке, только картину большего дыхания.
Увидеть такое небо для Вас было бы большой радостью. Я мучительно страдаю, что лишен возможности запечатлеть такую красоту на полотне. Вспомните всё, что высказано о сибирском небе, и нет никого, кто бы отметил это. Больше писали о сером сибирском небе (Чехов, Дорошевич и др.), о художниках я уже не говорю. И меня удивляет, как же проглядели такую красоту!
… Окружающие люди так далеки, чужды, и никакого контакта не может быть. Круг их интересов так примитивен, к тому же всё это старые люди (я говорю о своем бараке инвалидов), со всякими внешними дефектами: много костылей, есть и такие, у кого нет руки и т.д. От этого усиливается тяжелое впечатление от внешней картины…
7 марта 1940. … Из больницы я вышел уже более трех недель. Живу в бараке инвалидов. Большинство старше меня. Люди совершенно мне далёкие, но с этим нужно мириться. За свой 16-ти месячный путь я видел такое разнообразие лиц всяческого возраста, такую обнаженность человека, что познал его больше, чем за всю жизнь. И скажу Вам, самое страшное ― это человек.
Чувствую, что теряю последние силы. Мне трудно «носить» самого себя. Такая слабость…. Здесь я в продолжение целых суток слышу разговоры только на темы, не поднимающиеся выше «еды» и пр. Как будто и в природе нет ничего иного. Мысль творческая отсутствует совершенно. Такова среда, в которой я вынужден изживать свои дни. Иногда и сам чувствуешь, что тупеешь всё больше и больше. Это тоже страшно…. Поэтому прошу, пишите, как только сможете, больше и чаще. Духовная пища мне не менее необходима, она тоже хлеб насущный.
17 апреля 1940. … За последние дни принялся опять за рисунки и много сделал, применяя к карандашу простой мел, который достал здесь с большим трудом. Рисую у себя на нарах в очень, очень неудобном положении. Света также мало, и можно пользоваться лишь серединой дня, когда барак всего больше освещен. … Очень хотелось бы иметь письма Van Goge, тогда я бы мог вести разговор с мертвым, но таким живым и близким, с такой тяжелой жизнью, с таким трагическим концом и ставшим после смерти, только после смерти, знаменитостью, признанным всеми. Другой ещё безумец, безумный Эдгар По встает перед глазами. Его судьба. Его поэма «Ворон» с его неизменным Nevermore (Никогда!) на все вопросы, так близки мне, всё время звучат в душе. Вышлите мне её, хорошо?
Буду ждать теперь от Вас газет и книг. Заранее благодарю Вас от всего сердца.
Вместо великолепных видений изумительного города с величавой холодной Невой я вижу изгородь-ограду, вышки и на них часовых, и кругом шумит тайга…. Даже небо не хочет больше меня баловать. Погода каждый день меняется. Сегодня тепло, тает; на другой день рвёт и мечет ветер, крутит снег ― настоящий буран….
28-30 апреля 1940. Тайга. … Вчера и сегодня ходил на работу ― носили шайки и кадки на станцию (она в 2-2,5 км). И мне по дороге удалось сорвать первые весенние цветы ― прямо из-под снега. И это первые цветы, которые я за всё время «отсутствия» держал в руках. Посылаю их Вам, они очень нежны, но мне так хочется послать Вам что-нибудь из местной флоры. Удалось увидеть маленького животного вроде (?) белки ― бурундука с полосатой спинкой. Это мое первое соприкосновение с сибирской природой.
28 мая 1940. Тайга. …Физически я постепенно прихожу в свою «форму». Этому содействовала полученная посылка. Я подкормил себя жирами (масло и другие продукты).Если в дальнейшем я буду иметь посылки, то, может быть, и совсем поправлюсь.
… Мне для себя хотелось бы что-нибудь из нового искусства, то, что представляет живописную ценность, или рисунки, заключающие в себе искусство. Пришлите что-нибудь. Дайте отдохнуть от себя, а то я вижу только свою работу, да ещё к тому же такую урезанную условиями, в каких я нахожусь…
… Ещё вот что: мои рисунки нужно смотреть в немного уменьшенном свете, так как я их делаю у себя на нарах, в полутемноте, надевая сильные очки (их у меня сейчас 6 штук). Ни в коем случае не при солнце, ― тогда могут оказаться «дефекты», происшедшие не по моей вине, так как я их в полутьме не вижу. Так хочется писать маслом, но здесь я этого лишен совершенно. Даже акварель не могу использовать (я её получил в посылке). А время идёт, я старею, и мне уже не 30 лет, увы!
19 июня 1940. Тайга. … Я так стосковался по книге, по музыке, по живописи. Иногда я мысленно совершаю прогулки по галереям и музеям. Останавливаюсь у любимых вещей, у любимых художников. … Да, мой милый, милый друг, тогда я, действительно, был просветлённым, каким не был ни до того, ни после… Как недавно и как давно это было! Всё это позади жизни. Тяжёлая действительность каждую минуту говорит о том… О событиях, происходящих на западе, я знаю из местной областной газеты, которая читается в бараке. Правда, к сожалению, не регулярно. Всё, что происходит, не может не волновать. Сколько погублено замечательных произведений искусства в одной только архитектуре. Но что делать? Падающую скалу не остановить слабыми руками.… Всё так трагично и так неумолимо… Но мимо, мимо ― я сейчас не хочу здесь останавливаться.
1 октября 1940. Тайга. … Вы спрашиваете, что делаю я? За последнее время работал по конопатке мохом наружных стен бараков, и, представьте, ― нашел и здесь удовольствие. Я вообще (таков, знать, мой темперамент) увлекаюсь всякой работой и не умею работать «с прохладцей». Представьте меня за теперешней моей работой и улыбнётесь, как улыбаюсь я…. Посылаю Вам ещё одно стихотворение. Это мой ответ на высказанную мысль (я слышал со стороны), что жизнь нас, заключенных, основана на «законе джунглей». С внешней стороны это так, но для меня всё же это неприемлемо. Вот эти строки:
Мне говорят, что всё подчинено закону джунглей
(так здесь его зовут)
Что правит он, что правда здесь заключена:
«Я жить хочу ― ты ж можешь умереть!»
Моя ж душа признать его не может,
Не хочет, не признает никогда….
Пусть сердце боль на боль помножит,
Пусть победитель по-звериному хохочет,
Пусть горькой станет, как полынь, вода,
Пусть кровью пропитают землю,
Закон зверей, закона джунглей ― не приемлю!
Ещё раз говорю, что внутренне я принять его не могу. В действительности же здесь жизнь между заключенными такова ― сами себя поедают. Начальство бесконечно гуманнее к нам, чем мы друг к другу ― и это самое большое зло. Мой внутренний строй зиждется на этой трудной действительности. Вы понимаете меня? От Вас же я жду стихов Ахматовой. Хочется немного отдохнуть на нежности и аромате её стихов, всегда сугубо женственных…
18 декабря 1940. Тайга. … Ваше сообщение, что письмо дошло, а рисунки не дошли. То, что не дошли рисунки к Вл. Серг. я объяснял случайностью, небрежностью, но теперь, когда второй раз письмо доходит, а рисунки нет, объяснить случайностью нельзя. Это просто меня убивает, тем более, что вопрос нецензурности отпадает, так как они совершенно детски невинны. Что это такое? Я не знаю.
Вл. Серг. писал мне о своем запросе в ГУЛАГ, где ему, на его запрос о разрешении мне рисовать ответили, что никакого разрешения не требуется, я могу рисовать, что хочу и отправлять… Если я буду лишён возможности посылать рисунки Вам, то у меня главного стимула уже не будет, так как всё, что сделано, всё равно погибнет. Хранить мне их у себя очень трудно, даже невозможно……
… Я не хочу терять веры в человека, в его благородство, несмотря ни на что. И с этим убеждением умру, хотя моё пребывание здесь обязано подлости людей, да ещё мне близких. Я только укоряю себя за то, что мог допустить их к себе, не разобрав их сущности, способности на всякую гнусность. Такие люди, конечно, кроме презрения, ничего не заслуживают. Ненависти они не достойны. Можно ненавидеть врага, а не какую-то слякоть.
Напишите Вл. Серг., что в следующей посылке я прошу выслать маленькие ножницы, а также и зеркальце. Они нужны для того, чтобы приводить в порядок бороду и не всегда походить на дедушку Мороза с ёлки. К своему виду я теперь немного привык, но всё же голая стриженая голова меня раздражает. Она у меня круглой формы, а такую форму голов я не люблю. Я ношу, не снимая, черную шапочку, а иногда белую повязку, которая дает даже очень «интересны» вид, право! Кроме шуток.
Но такой вид я могу иметь только в лагере. Здесь можно иметь какой угодно вид ― никого это не удивит, и никто не обратит внимания. Можешь быть пестрее арлекина, иметь сотни разноцветных заплат ― и всё будет в порядке. Такое явление очень, очень любопытно, и только я как художник обращаю внимание на эту сторону. Ну, кончаю, и к тому же и бумага кончается. Привет, привет всем….
Примечание. В лагере на ст. Тайга он находился до января 1943 года, когда был досрочно освобожден из-за полного истощения. Отрывки из писем Соколова за 1941 и за 1943 — 1947 годы из Рыбинска, где он жил после освобождения, напечатаны в Летописце в других местах в соответствии с хронологией.
ПИСЬМА М.К. СОКОЛОВА ИЗ ЛАГЕРЯ – Н.В. РОЗАНОВОЙ
1941 год
1941, 15 января. <…> Вы спрашиваете о моей жизни, об обстановке. В нашем бараке в настоящее время 110 человек. Нары по обе стороны в два этажа (я на верхнем) ― здесь много теплее, но от табаку, а здесь курят только махорку, более душно, так как всякие запахи и дым, всё идет кверху, и этим приходится дышать. Всё это набито до отказа, и все инвалиды-хроники ― многие предельного возраста, свыше 70 лет. Сейчас я не работаю (принадлежу к первой категории инвалидов, которая освобождена от обязательной работы с нормой). Поэтому у меня сейчас время свободно… Беда в том, что наш барак освещается керосиновыми коптилками, и поэтому в бараке полутемно, если не сказать больше. День же сейчас очень короток. …Из книг хотелось бы «Войну и мир» Толстого, «Уединенное» и «Опавшие листья»***. Но последние не пройдут, о чем не могу не жалеть. Пишите, если здоровье позволит, поскорее. Учтите, что дни у меня длиннее Ваших, и ожидание письма иногда становится невмочь. Ждешь, ждешь, а их всё нет…
*** Названия книг философа В.В. Розанова, отца Надежды Васильевны.
1941, 13 февраля. <…> Сейчас пишу, но совершенно нет уверенности, что эти строки Вы будете читать, и всё же пишу. На большее я уже не способен. Столько пропало за последнее время писем моих… У меня накопилось много рисунков, есть как будто неплохие (к Шекспиру), но они у меня испортятся, так как сделаны с мелком (как пастель), а поэтому всякое давление и перекладывание на них сильно отражается. Самая ценная красочная пыльца стирается. Но что же делать! В этой беде я ничего не могу сделать… Сегодня была почта ― для меня опять ничего. Ах, если бы Вы знали, с каким нетерпением ждешь выкрика своей фамилии. Ждешь до последнего письма, но кончается читка, а моей фамилии так и не было названо…
1941, 8 марта. <…> От мамы также до сих пор ничего нет. Прилагаю небольшую грамотку, ― перешлите ей. Меня очень беспокоит здоровье мамы. Её возраст такой предельный (за 80 лет), что можно ждать всего. Мысль об этом от меня не отступает. Мне будет очень трудно перенести её утрату. Я всегда её мыслю как вечно живое и питающее меня. Всей своей духовной жизнью я обязан ей. Она кристальной чистоты человек, и в жизни для меня была посохом, на который я опирался…
1941, 14 марта, ст. Тайга. <…> Сейчас весна чувствуется и здесь. Небо с тяжелыми, дождливыми тучами они плывут совсем над головой. Тайга шумит, но это уже весенний шум. Мне пришлось даже видеть какую-то птицу, не то коршун, не то ястреб, высоко парящий над тайгой.
1941, 27 марта. Спешу Вам сообщить о горестном для меня событии, да, событии о распоряжении, запрещающем высылку книг, журналов, газет… сам я потерял всякую надежду. Теперь я буду лишен общения с человеческой мыслью, с искусством, без чего мыслящему и чувствующему человеку так тяжело. …Тишина. Ночью слышно лишь дыхание спящих, в отличие от дня, когда круглый день шум, брань, ссоры из-за пустяков и мат, просто беспричинный мат ― беспрерывно. <…> Вот говорю с Вами, а сердце мучительно болит и рядом внутри идёт другой разговор, который едва ли когда услышите, а он очень значителен ― это разговор сердца, мысли, жизни….
1941, 10 апреля. Утро. <…> Пока я писал, солнце уже успело подняться и ослепительно сверкает. Новый день начался. Каждая минута приближает меня к свободе и… к смерти, и поэтому как дорога каждая минута! Их уж не так много в нашей жизни, в сравнении с нашим желанием жить, жить и жить. Эта мысль хорошо выражена у Вашего отца, кажется, в «Уединенном», а также у Достоевского. Мне сейчас бы хотелось прочитать «Карамазовых» и Диккенса, как противоположность. Один всё нутро будоражит, а другой успокаивает. У Диккенса страдания так же много, но оно не мучительно, а как целительный бальзам. Согласны?…
1941, 31 мая. …Сибирь и каторга стали синонимами. Но здесь есть красоты — это небо; совсем южное, итальянское, как у Веронца, какого-то изумительного зелено-голубоватого цвета. Вечера же, как у Тернера, — торжественно и великолепно. Золото и серебро во всем своём блеске — края же сиреневые и голубые, а местами как будто слегка прошла по ним рука гениального художника бархатным углем.
[Веронец — итальянский художник Паоло Веронезе]
«Маленькие» — так их называл М.К. Соколов